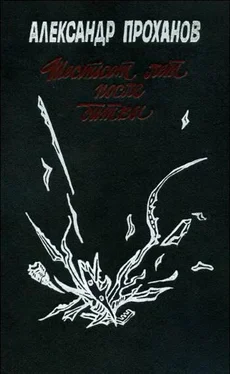В этой веренице, восходящей на борт, он видит отца, и мать, и бабушку, и соседей по дому, и знакомых ребят из поселка, с кем дружил и дрался когда-то. Девушку, которую любил своей первой быстротечной любовью. Женщин с забытыми именами, кто дарил ему мимолетные ласки. Тех бессчетных людей, с кем сводила судьба на стройках, в дорожных вагонах, в номерах затрапезных гостиниц.
Поднялись один за другим «великаны» и канули в проемах дверей.
А вот и те, с кем сошелся в нынешней жизни, — все они были у трапа.
Медленно взошла, остановилась, оглядываясь, Елена Вагапова. Держала на руках младенца, кутала, защищала от ветра. И муж Михаил обнимал ее нежно за плечи. Прошли и исчезли в темной глубине самолета.
Поднялся по трапу Костров с обветренными, сухими губами, с лицом, исполненным муки. Следом за ним величавый седой старик, его отец-летописец. Держал свою «Книгу утрат».
И Дронов с женой, с сыном — боевым вертолетчиком. Тоже поднялся, горбясь, пропуская вперед жену. Коснулся сыновьей руки, оглянулся перед тем, как уйти в самолет.
Сергей Вагапов с Катюхой медленно поднимались в потоке. На Катюхе было новое платье, но глаза ее были в слезах. Она смотрела на Сергея, чего-то ждала, но тот молчаливо и медленно двигался по высокому трапу, пока их обоих не поглотил самолет.
В этом мерном движении людей, отправлявшихся в полет на «Антее», были и Чеснок с дружками, и дурачок с кульком.
Здесь был Горностаев, очень бледный, красивый, поднял воротник пальто, зябко кутался, весь продрог, торопился укрыться от ветра.
Туда же, в огромное чрево, входили и его сослуживцы. Менько, Накипелов, Лазарев. Язвин дышал на свой перстень.
Поток не кончался. Казалось, он зарождается где-то в полях и лесах, за завесой дождя. Тянется, вырастает, приближается к самолету. Покачавшись на трапе, уходит в бездонное чрево. Здесь были люди со славянскими и азиатскими лицами. Узбек в тюбетейке. Молодой безногий десантник опирался на шаткий костыль. Поднимали под руку старушку. Следом за ней генерал крутил красноверхой папахой.
И он, Фотиев, двигался в том же потоке. Антонина была с ним рядом. О чем-то беззвучно спрашивала: так ли она все делает, туда ли они идут? И он отвечал: туда. Они делают так, как все. Как всем им было записано.
Они сидят в самолете. Длинное, в обе стороны уходящее пространство и лица, множество лиц.
Загудел один двигатель. Его гул, его тень от пропеллера. Тронулся второй, третий. Могучие моторы дрожат, сотрясают машину. И этот вселенский до неба рев, этот металлический вой и есть звуки мира, в котором они живут, небо, в котором летят, время, в котором движутся.
«Антей» отрывается от бренной земли, тяжко, со своей непомерной ношей, сбрасывая черные шлейфы копоти, идет в небеса. И все, кто ни есть в самолете, замерли, слушают упорное движение машины, одолевающей притяжение земли.
Летят в ночи. Черная, непроглядная тьма. Пульсирует габаритная лампа. Освещает и гасит надпись на крыле — «СССР». Впереди, в черном небе, в длинном узком прогале, — заря, красная, окруженная ночью. До восхода еще далеко. Ночь бесконечна. «Антей» в металлическом рокоте медленно идет на зарю…
Он проснулся с биением сердца. Близко, у самых глаз, — свеча. Совсем не сгоревшая, с легким колыханием пламени. И милая его говорит:
— Ты знаешь, я очень люблю игрушки для елки из тоненького стекла…
Он взял ее руку, прижал к груди. Замер, слушая парение по комнате легких воздушных течений.
Огромный таинственный ветер, зарождаясь в глубине мироздания, омывая миры и галактики, пролетал над землей. Двигал тучи, толкал океанские воды, гнал рыбьи косяки, смещал с маршрутов корабли, самолеты. И штурманы вносили в приборы и карты поправку на таинственный ветер. Он пролетал над Россией, в талых ночных снегах, в тяжких застывших льдах. Над ее городами и пашнями, над заводами и разоренными храмами, над гарнизонами и крестьянскими избами. Залетал и сюда, в их комнату, омывал их, лежащих, слабо двигал пламя свечи.
— Ты помнишь эти игрушки для елки? — тихо смеялась она.
По зимней вечерней дороге шел конь, запряженный в сани. На санях, на соломе, лежал человек. Кольчуга его была прожжена и пробита, спеклась на груди в ржавый ком. Шлема не было. Волосы смерзлись, влепились в красную льдышку. Опаленная солома топорщилась черной гарью, словно сани прошли сквозь пожар.
Под дугой на колечке слабо звенел бубенец. На дуге, намалеванный синим, стоял на задних лапах медведь. Человек лежал на соломе и бредил. Сквозь оплавленный пролом в кольчуге вяло сочилась кровь. Пропитывала солому, капала под сани, вмерзала красными бусинками. Сороки и сойки слетали на дорогу, долбили снег, выклевывали ягоды крови.
Читать дальше