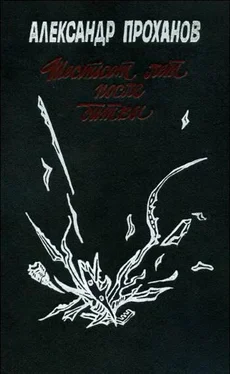Стукнула дверь, появился Язвин, бодрый, улыбающийся, щеголеватый, в новенькой пластмассовой каске, с неизменным черно-серебряным перстнем.
— Доброе утро, Николай Савельевич, — приветствовал он Фотиева, наполняя вагончик запахом дорогого одеколона, расстегивая телогрейку, под которой белел ворот рубахи, нарядно пестрел галстук. — Выкроил минутку и решил забежать. Застать вас в вашей экологической нише.
— И чудесно, Леонид Петрович, — приглашал его Фотиев, хватая чайник. — Хорошо, что зашли. Сейчас чаек вскипятим!
— Радушный вы человек, симпатичный, располагаете к себе! Я и сам таков! — признался Язвин. — Что вы здесь чертите? Никак для Накипелова стараетесь? Повезло Накипелову, сблизился с вами. Особые отношения, сердечные! Но ведь есть и другие люди, Николай Савельевич, кто хотел бы иметь вас в друзьях. Поближе познакомиться с «Вектором», быть может, заняться его внедрением. Надо расширять отношения, круг друзей. Это и политически верно, и для души приятно!
— Я вам очень рад, Леонид Петрович! Душе моей очень приятно! — Он усаживал гостя, хлопотал, радовался его улыбке.
— Все-таки знаете, Николай Савельевич, здесь, в глухомани, очень тесен круг общения. Мало людей, с кем бы можно было дружить. Много дельных работников, славных товарищей, а вот близких по интеллекту, по духу очень немного. Я несколько раз вас слышал, наблюдал за вами. Ваш «Вектор» мне импонирует. Я бы хотел с вами сблизиться, сойтись, как говорится, домами.
— Я тоже вас слышал. Единомышленников всегда не хватает. Домами дружить хорошо. Собственно, вот он, мой дом. В общежитии у меня угол, а это дом. Рад вас приветствовать в моем доме!
— Следующая встреча у меня. Жена будет вам рада. Я, вы знаете, в отличие от многих обставил дом на широкую ногу. Иные живут, как на насесте. Не квартиры, а времянки. Думают, кончится стройка, получат квартиры где-нибудь в Москве, в Ленинграде и там заживут, там и мебель поставят, зеркала, картины развесят. Так вся жизнь и проходит. А я — по-другому. Приходите, покажу вам мою обстановку, мою коллекцию монет. Побеседуем, вина хорошего выпьем, посмотрим «видео». У меня много фильмов по искусству. Я, знаете, летом с супругой отправляюсь в круиз по Средиземному морю, и мы сейчас смотрим фильмы о Греции, Италии, Франции. Приходите, посмотрим вместе!
— Интересно! Приду. Посмотрим на Афинский акрополь.
— Вот видите, увлек вас. Найдутся общие интересы. Поговорим о Греции. Кто-то ведь строит акрополи, а мы с вами только энергоблоки.
Он принял из рук Фотиева стакан горячего чая. С удовольствием пил. Мерцал перстнем. Улыбался глазами. И Фотиев радовался: появился еще один друг, еще один единомышленник.
— Вы знаете новость? — отставил стакан Язвин. — Замминистра Авдеев Афанасий Степанович умер. Из Москвы был звонок. Вы помните, к нам на стройку приезжал Авдеев?
— Его не помню. Я приехал в Броды в тот день, когда он уехал. Трясся в автобусе, а навстречу «Чайка». Откуда, думаю, «Чайка»? А потом уж узнал — на стройку приезжал замминистра. Но я его здесь не застал.
— Да, не застали. Но все равно вам интересно узнать. Колоритный мужик был Авдеев, грубый, резкий, не терпел противоречий. Сказал — сделай! Накричал — исполняй! Типичный, как говорится, деятель застойного периода. Лауреат, Герой. Дело знал! Уважали его. Много строек из грязи поднял. Все реакторы через его руки прошли. И чернобыльский тоже. Не простили ему Чернобыля. Не сразу уволили, а подержали, потомили, да и проводили на пенсию. И хорошо проводили, не пинком в спину. Министр на коллегии адрес читал. К ордену представили. Дорогой подарок сделали. Афанасий Степанович благодарил, шутил, что теперь, дескать, займется наконец любимым делом — из цветной бумаги журавликов вырезать, наподобие японских. Вернулся домой, взял, говорят, ножницы, одного журавлика вырезал, да и умер. Сердце не выдержало. Столько энергоблоков пускал, выдерживало, а пенсионного журавлика не выдержало. Вот оно, наше сердце!
Фотиев слушал, вспоминал промелькнувшую «Чайку», промерзший автобус, лицо Антонины, дурачка в треухе, бича в красном шарфе. Свое первое появление в Бродах, когда все уже начинало завязываться, складываться в первый рисунок, и листочки «Вектора» лежали в старом портфеле, как горстка драгоценных семян, спасенных из пожара. Еще не в земле, еще без ростков и кореньев, — робкая возможность будущих хлебов, урожаев. Теперь эта весть о кончине Авдеева, незнакомого, постороннего ему человека, встревожила его. Что-то разрушила в том первом морозном дне, в его изначальном рисунке. Легчайшая цепь разрушений протянулась в это светлое утро из того морозного дня.
Читать дальше