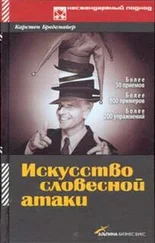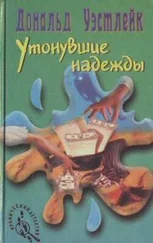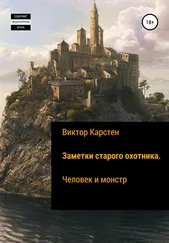Он привык, что в Марстале на него поглядывают. Вся его жизнь была выставлена на всеобщее обозрение. Он этого не желал, но научился использовать. У него была власть, если не над мыслями людей, то, по крайней мере, над их домыслами. Он был из тех, что дают пищу сплетням и страхам, а в его случае то и другое перемешивалось. Они радовались его падению, когда Хенкель попал в тюрьму, а верфь разорилась и он потерял все. Но радовались только потому, что боялись его. Думали, все, конец ему пришел. Но ему никогда не придет конец. Он всегда сможет подняться. Херман знал, что таилось в их взглядах: ненависть, страх, злорадство, зависть, любопытство, и его душа питалась всем этим.
А что таится во взглядах мальчишек, он не понимал. Они ждали его напротив пансиона на Твергаде, в котором Херман жил, когда бывал в Марстале. Он мог зайти в магазин, выйти из магазина, прогуляться по гавани, спрятаться в кафе Вебера — они всегда его ждали, и он все чаще искал убежища, все сильнее хотел укрыться. Перед ним открылась дверь в незнакомый мир. Тогда, на борту «Двух сестер», произошло нечто. Иногда воспоминание о содеянном его укрепляло. Иногда он пытался об этом забыть. А теперь испытывал ужас при мысли о разоблачении и последующем наказании, инстинктивно понимая, что в загадочных мальчишеских взглядах таится сила, с которой ему не совладать. Он думал, что сможет напугать этого чертова Антона. Но посвященными оказались все городские мальчишки, сотни мальчишек, и все время — новые лица, непредсказуемый народный суд, и, хотя обвинение ему было знакомо, он не имел ни малейшего представления о том, по каким законам его будут судить. Эти взгляды преследовали его повсюду, они проникли даже во мрак, окружавший его постель, и наводняли сны, угрожая безумием. Всех же их, проклятых, не убьешь, хотя у него, как встарь, сами собой сжимались кулаки. Он весь был как натянутая струна. Стал больше пить, чаще влезал в драки в кафе Вебера, чтобы хоть чем-то занять руки.
Голландская водка утратила вкус, рижский бальзам — целительное действие, за которое уже век прославляли его марстальские шкиперы, виски — лекарство из лекарств — стал водой. И когда он подносил стакан ко рту, у него тряслись руки. Херман стал сторониться людей и пил в одиночку.
И вот однажды он сдался и с рюкзаком за плечами широким шагом приблизился к парому, идущему в Копенгаген, чтобы наняться на корабль в судоходном агентстве Йепсена. Они и об этом знали, словно читали его мысли. Считать он не стал, однако у стоянки парома собралось по меньшей мере двадцать-тридцать мальчишек — прямо-таки прощальная депутация.
Сохраняя обычное загадочное молчание, они смотрели ему вслед. Вместо того чтобы, как у него было заведено, прямиком отправиться в салон и закурить, провожая взглядом ненавистный город, к которому он при всем при том необъяснимым образом был привязан, Херман оставался впотьмах на закрытой багажной палубе, среди повозок и грузовиков, запахов машинного масла и грязи, пока не уверился в том, что с берега его больше не видно.
Поднявшись наконец в салон, закуривая первую сигарету, он старался унять дрожь в руках.
А мысль, посетившая Кнуда Эрика, была проста. Он спросил себя: какое переживание в его жизни было самым неприятным? — и рассчитывал на то, что чувства Хермана не слишком сильно будут отличаться от его собственных. Побои не считались, эта возможность была недоступна, кроме того, не факт, что Херман имеет что-то против драки, даже если ему самому достанется. В душе мальчика жила память о другом опыте. Воспоминание о материнском взгляде, который преследовал его после смерти отца. Он не мог сказать, что в этом взгляде сквозил упрек. Нет, молчаливый и пристальный, он преследовал его повсюду, в нем читался вопрос, на который у ребенка ответа не было.
Чего она хотела?
Он скукоживался под тяжестью этого взгляда, который, казалось, подвергал сомнению все, что бы мальчик ни предпринял, не предлагая ничего взамен. Вот оно: ты вынужден гадать, что же стоит за этим взглядом, и в то же время знаешь, что ответа, который сможет избавить тебя от этого бремени, не существует.
Он всего лишь представил, что может передать это бремя Херману, и смутное обвинение, читающееся во взгляде, заставит сломаться даже такого закоренелого и бессовестного преступника, который еще в детстве стал убийцей.
Херману никогда не узнать, что его сразило. И это было лучшим в замысле Кнуда Эрика, поскольку он, конечно же, не рассказал ребятам, которых подговорил принять участие в травле Хермана, об истинной причине «крестового похода». Слишком рискованно было посвящать их в тайну убийства Хольгера Йепсена. Кто такой Йепсен? — спросили бы они, затем имели бы глупость спросить взрослых, и тогда уж не миновать скандала. Нет, он поступил иначе. Привел их в сад Антона и на глазах у всех похоронил Торденскьоля. Продемонстрировал свернутую шею, мертвые глаза, открытый клюв, поблекшие перья, сломанные крылья. Тело пожирали черви.
Читать дальше