— А вышак, — спокойно ответил он. — Потом помиловали. Прошение написал и помилование пришло. На пятнадцать лет заменили. А на Двадцатипятилетие победы ещё помилование вышло — учитывая боевые заслуги и по состоянию здоровья совсем отпустили. Тринадцать лет и два месяца только и отсидел.
— Только — то? — Подивился я тому, что даже тут он увидел поблажку судьбы. — Да… Покуражилась над тобой жизнь… И теперь вот так по тайге да по тундре мыкаешься и на такие доходы, — я кивнул в сторону печки, — живёшь?
— А нет, ничего. Я военную инвалидность получаю. Пенсия у меня хорошая. А это так… Для одного дела нужно.
Чайник вскипел. Я открыл кастрюлю — донимают лемминги, существа внешне симпатичные, но слишком вездесущие, поэтому всё приходится прятать в стеклянную или металлическую посуду — достал халву, сахар, чай. Поставил кружки. Заварного чайника у меня не было, я положил себе заварки и подал пачку печнику. Он вопросительно взглянул на меня.
— Клади как любишь, чай у меня есть, — наклонил кастрюлю, показал ему лежащие на дне пачки китайского чая, единственного доступного в тайге и столь дефицитного в ту пору в столицах.
Он заполнил свою кружку заваркой на добрую треть, залил кипятком и поставил на край настила печи, чтоб чай, а по моим понятиям уже чифир, получше заварился.
— Всё занимает меня, знаешь… Как же это погибшая мать ко мне в лес пришла? — И хотя на базе, если и остался народ в это время, в разгар рабочего дня, то далеко в гараже или в пекарне, а в балке кроме нас вовсе никого не было, он приглушил голос. — Ты только не смейся… Но думается мне, что это по настоящему было.
— Вполне возможно, — согласился я. — В литературе таких случаев описано не мало.
— То есть, не то я хотел спросить. Не почудилось мне… Была она в лесу, я это точно знаю. Я видел её, вот как тебя сейчас вижу. Мне другого не понять — как она смогла прийти умершая. Вот бы спросить кого…
— Наверно священника в церкви надо спросить.
— Это так, да… Вот если бы с попом, так же как с тобой сидели, тогда б спросил. А в церковь идти… Неловко по пустякам человека беспокоить, от серьёзных дел отрывать.
— Это его работа.
— Да и нельзя мне в церковь…
— Почему нельзя? Мусульманин что ли? И мусульмане ходят. На прежней моей работе, в Питере, мастером был азербайджанец Мамед. Мусульманин, а в собор часто ходил. Молиться, так что бы со всеми, я не видел, но свечи за больных о здравии и о мёртвых за упокой всегда ставил. И наверно, всё — таки молился. Как — то встретил его, а он говорит: «Пойду в церковь, свечку поставлю, завтра зачёт в институте сдавать, помощи попрошу». А как без молитвы помощи попросишь?
— Не мусульманин я. У меня хуже — я Бога обманул.
— Ну да? Разве это возможно?
— А я обманул.
— Как же?
— Вот так. Пообещал, если живым из разведки вернусь, то пойду в церковь и самую большую свечку, на какую только денег хватит Богу поставлю. И не пошёл. То некогда, то настроение не подходящее, то выпил, а выпивши не пойдёшь, то ещё что — нибудь помешает. Так откладывал, откладывал, и время ушло, ни разу в церковь не зашёл.
— Сходи, когда на магистраль вернешься, есть же там церкви.
— Есть, и не одна. Но я время упустил. Обещал, как из разведки вернусь.
— Наверно, время не очень важно. Ты поговори со священником, так, мол, и так. Что — то он посоветует, как тебе из этой ситуации выйти.
— К попу… Что он может сказать? Он такой же человек, как все. Поп за Бога не решает. — Помолчал немного и заключил. — А нет, ничего, я сам как — нибудь. Потом сам с Ним поговорю.
— С кем?
— С Богом. Говорят, на сороковой день после смерти, человека, точнее душу человеческую на суд ведут, за всё, что человек в жизни плохого и хорошего сделал, ей на этом суде ответ держать. Тогда уже определяется где дальше душе быть: в раю, в аду или ещё где. А перед тем, в третий и в девятый день к Богу приводят, вроде как для личного знакомства и для беседы. Вот тогда, в третий или в девятый день, смотря как по обстоятельствам сложится, и поговорю, объясню всё как есть. Поймёт, думаю, что не специально я Его тогда в лесу обманул, а так получилось. Где по мальчишеству, где по иной какой причине. А нет, ничего, должен понять, думаю.
Взял с печки кружку, сделал два частых мелких глотка.
— Сахар клади, халву бери. Оленина есть варёная.
— А нет, ничего не надо. Я сладкий чай не пью. И есть не хочу, днём я редко ем. А на вечер у меня свой суп сварен.
Поморщился. Поднял подол рубашки. Под ней, по середине живота, по голому телу, засаленный до черноты узкий брючный ремень с вытянутой полуовальной пряжкой. Поднял ремень повыше, под рёбра, подтянул ещё на одну дырку.
Читать дальше




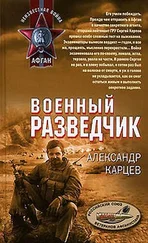

![Александр Исбах - Женщина в Гражданской войне [Эпизоды борьбы на Северном Кавказе в 1917-1920 гг.]](/books/412910/aleksandr-isbah-zhenchina-v-grazhdanskoj-vojne-epizody-borby-na-severnom-kavkaze-v-1917-1920-gg-thumb.webp)


