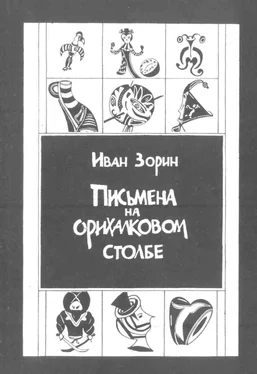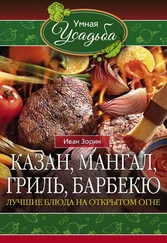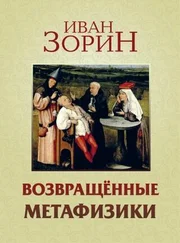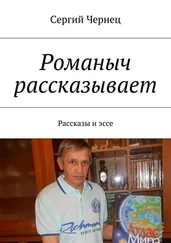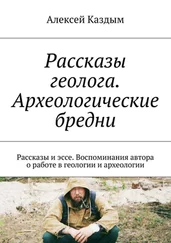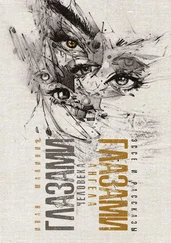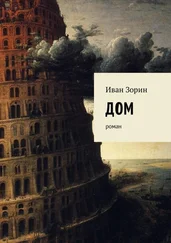Так постепенно сплетаются в цепь звенья новеллы, так проступает ее алгоритм, обозначается поразительная формула ее структуры. Третья история почти детально совпадает с двумя первыми. Она также стартует с пробуждения (III), этого нового фигуранта, да и события разворачиваются весьма похоже. Опять, после уже поднадоевших и нелепых сцен бегства и погони, где роль «убийцы» исполняет теперь некий злонамеренный инкогнито, все тот же плащ, все тот же шрам, все тот же оставленный ему в наследство реквизит, после подобного описания, правда, сокращенного, дабы не слишком утомлять, возникает ощущение, что и это — чей-то сон. Приученный уже к аналогии читатель, скучая, конечно, ждет в качестве разрядки пробуждения этого персонажа, пока постороннего и введенного крайним в вереницу сновидцев. И дожидается. Кто-то, очнувшись, обрывает и этот сон.
Однако в заключение, Далглиш, который по ходу действия все чаще и чаще привлекает форму иносказания, делает туманные намеки на то, что и это пробуждение не есть пробуждение de facto, пробуждение, с достоверностью разрешающее собой всю ситуацию, пускай и вычурно, а оно, так догадывается читатель, лишь пробуждение во сне первого из действующих лиц, его мимолетное пробуждение к другому, более глубокому сну. И хотя ясно, что сон этот будет в точности совпадать с только что изложенным, по самому смыслу рассказа понятно, что он ему не идентичен. «Так разнятся все одинаковые капли нашей гераклитовой реки», — используя оксюморон, передает где-то в прощальных абзацах эту мысль Далглиш. И этот головокружительный поворот возвращает нас к исходной точке. Изящно зацикливая сюжетную линию, он обращает всю конструкцию в бесконечность, герметически замкнутую, потенциальную бесконечность, углубляющуюся при каждом новом прочтении новеллы. Он заставляет читающего вечно блуждать в колесе, нет, в жутком лабиринте снов!
На публикацию «Dreaming» критика отозвалась — как и всегда в случаях появления чего-нибудь значительного — рядом осторожных недомолвок [106] Чего не скажешь о подражателях. Их сыскалось великое множество, в том числе и я сам, сочинив ничтоже сумняшеся рассказ «Игры Иванова со сном».
. Кое-кто обнаружил в этой новелле лишь авторскую неудовлетворенность, его запоздалые претензии на гениальность. Последнее же редко прощается. «Шокировать — пожалуй, основное назначение этого монстра, выползшего из-под пера Далглиша», — писали тогда в обычно сдержанных «Спектейторе» и «Литературном приложении к «Тайме». Некоторые, как ни прискорбно упоминать об этом, не увидели здесь ничего, кроме причуды ума, подтачиваемого старостью. Многие, увы, очень многие узрели в ней фрейдовскую символику и только, иные нашли здесь отзвук оригинальных доктрин Герберта Куэйна [107] Герберт Куэйн — персонаж новеллы Борхеса «Анализ творчества Герберта Куэйна».
, а кто-то окрестил ее «обыкновенной штучкой эстета», поспешив причислить к архиву литературных экспериментов [108] Сам же Далглиш от каких бы то ни было комментариев отказался.
. Но ни то, ни другое, ни третье, на мой взгляд, не соответствует истине. Ведь здесь выражено нечто совсем иное. Согласно английской поговорке, писать — это значит отражать мир в словах (The world in the words). Если это действительно так, то Педро Эрнастио Далглиш, опираясь на метафору сна, отразил сумрачность и непознаваемость мира. И еще он отразил ту порожденную им печаль, которая царит в сокрушенных сердцах всех смертных.
О ЗАМЫСЛЕ, ЕГО ВОПЛОЩЕНИИ, ИЛИ О ТАЙНЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОТВРАЩЕНИЯ
В Сутта Нипате поэтично и трогательно сказано: «Я хочу говорить о печали». Я же в эссе с таким барочно длинным названием хочу говорить о ненависти. О той ненависти, которая проступает в завуалированном качестве сквозь наивную радость созидания и творчества.
Наступает такой момент в работе, причем обязательно, когда я начинаю вдруг люто ненавидеть свое произведение. Это для меня, кстати, и является главным критерием его завершенности. Конечно, не в каком-то объективном смысле его совершенства (когда принято говорить несусветную чушь, мол, нельзя ни добавить ничего, ни убавить, что, очевидно, неверно: всегда возможно что-то исправить и переделать так, что форма произведения — о, если бы сказал кто-нибудь, что такое вообще форма! — не очень-то и почувствует внесенные изменения, просто одна из бесчисленных форм или, лучше сказать, мыслеформ, того единственным образом сложившегося в голове произведения, станет всего лишь чуточку иной, в пределах допустимой ошибки различения, то есть в пределах разрешающей способности нашего понятийного аппарата), а рождается чисто субъективное ощущение завершенности, идущее от усталости, что ли.
Читать дальше