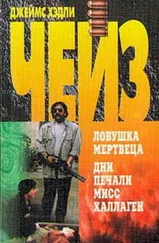Сегодня утром Горан ничего не ел, только курил и, насквозь прокопченный табачным дымом, наконец увидел брата у порога отцовского дома. Игнат сидел в машине, лицо его ничего не выражало. Черная служебная «волга» Горана, качнув тремя антеннами, остановилась напротив. Слезы закипели в пересохшем горле, в груди что-то оборвалось. Он велел шоферу скрыться до вечера, выбрался из машины. Ноги подкашивались от волнения, но Горан овладел собой и — большой, тяжелый — остановился посреди улочки. Игнат тоже вышел из машины. Они стояли в пыли, поднятой умчавшейся «волгой», в пыли прошедших в безмолвии тридцати лет. Было так тихо, что оба услышали, как во дворе упала с дерева груша, из чьего-то окна донесся плач ребенка. И никого вокруг: ни любопытных соседей, ни старушек с кошелками, ни самозабвенно играющих детей.
Несколько секунд Горан не решался пожать протянутую ему сухую горячую руку, — несколько секунд, в которые вместилась вся их жизнь. Казалось, вот-вот бай Йордан отворит железную, некрашеную, вечно скрипевшую калитку, а бабушка Донка, спрятав под фартуком руки, окликнет их с порога. Калитка не скрипнула, заброшенный садик зарос бурьяном, над ним торчал огромный темно-красный георгин, давно отцветший и засохший. Яблоня еще пыталась плодоносить, яблоки на ней всегда были вкусные, кисловато-сладкие, но наполовину червивые. Может, и в нашем роду есть какая-то червоточина, подумал Горан и вдруг, напрочь забыв о яблоне, вновь увидел себя во главе милицейского отряда, окружившего этот самый дом. Парабеллум, горячий от сжимавшей его руки, оттягивал карман. Мать, закрыв руками лицо, рыдала в соседнем дворе в объятиях какой-то женщины. Рядом — бай Йордан, низко опустивший встрепанную ветром белую голову. «Есть кто-нибудь в доме?» — рявкнул Горан. Было тихо, никто не ответил ему ни словом, ни выстрелом — лишь мать отчаянно всхлипнула, и ее «Боже!» вонзилось в небо. Горан распахнул дверь ударом ноги. Толчок оказался слишком сильным, и дверь снова захлопнулась. Сквозь чириканье воробьев Горан слышал свое дыхание, стук сердца. «Есть кто-нибудь в доме?» — крикнул он снова. Молчание, тишина. Верный одной лишь своей правде, познавший горные партизанские тропы, подполье и ежечасную готовность погибнуть, Горан овладел неистовым своим сердцем, снова толкнул дверь и вступил в темную прихожую. Скрипнули половицы, под ноги попала скомканная дорожка, он отшвырнул ее сапогом. Вошел в крохотную кухоньку, остановился перед ведущей в кладовку дверью. Рядом с кольцом на старой щеколде зияла дырка, через нее была пропущена веревочка. Тишина. «Есть тут кто?» Молчание. Горан отошел от кладовки. — медленными, ровными, словно патроны в пачке, шагами, — поднялся по внутренней лестнице. Наверху, в зальчике, подошел к столу — ветхая, вылинявшая скатерть, пепельница, полная булавок, и среди них перламутровая пуговка. Он стоял среди обступивших его расшатанных стульев, под взглядом богородицы, следившей за ним с иконы поверх горящей лампадки, вокруг — четыре двери, как четыре направленных в грудь дула. Подождал немного, крикнул: «Есть тут кто? Выходи лучше сам, сдавайся!» Никакого ответа. Одну за другой Горан обошел все комнаты — безрезультатно. В комнатке, где они когда-то жили с Игнатом, лежали на столе несколько пыльных книг и обернутая в голубую бумагу тетрадка. Горан раскрыл ее — братова тетрадь по арифметике. Столбики цифр и записи уравнений заплясали перед глазами. Он скомкал ее, швырнул на пол и вдруг рядом с ножкой стола заметил железный наперсток матери. Вот, наверное, обыскалась! — ударило ему в голову. Горан поднял наперсток, положил на стол. Нигде никого: ни в комнатах, ни в стенных шкафах, ни в чулане, где отец хранил свои кожи — этот запах останется с Гораном навечно. Из-за отдернутой белой занавески выглянул во двор — милиционеры стояли перед оградой, нацелив на дом пистолеты. Поискал глазами мать в соседнем дворе, но за зеленью ее не было видно; где-то там с трудом переводил дух и отец, склонив от стыда белую голову. Горан медленно спустился по лестнице, понимая, что может оказаться отличной мишенью, но главное — что одному из них под этой крышей больше нет места. Снова остановился в темной прихожей у двери в кладовку. Поднял щеколду, скрипнули петли, дверь качнулась внутрь, открыв прячущиеся в полумраке мешки, какие-то жерди, ящик и стоящую на нем квашню, ударили в нос знакомые с детства запахи — Горан скорее вспомнил, чем увидел все это в темноте. Потом в груди все словно бы окаменело, не было в ней больше ни воспоминаний, ни жалости; он вытащил пистолет, нацелил его на тьму и сказал глухо: «Если ты здесь, стреляй!» Молчание, тишина. Он слышал свое дыхание и рядом — или это только показалось? — чье-то еще. Подождал секунду и совсем уж глухо добавил: «Тогда буду стрелять я!» И вдруг поднятая рука налилась тяжестью — мать рванулась из глубины сердца, повисла на ней, заполнила собой прихожую, кухню, темную кладовую, прогнала былые и теперешние запахи. Железный партизан дрогнул, снял палец с курка, сунул в карман пистолет и вышел, чуждый всему, и больше всего самому себе. «Никого здесь нет! — крикнул он милиционерам. — Я все проверил. Пошли!» Милиционеры построились, и оцепление растаяло, как мыльный пузырь. Мать, громко рыдая, кинулась к дому, снова выглянули из листвы яблоки, и соседки, шаркая шлепанцами, разошлись по домам, перешептываясь, проклиная, зажимая руками рвущийся из горла крик. Ушел с чужого двора и отец, сгорбившись, склонив голову, — той же зимой Игнат был схвачен в заброшенной кошаре, раненый, брошенный своими… — так что выпрямился отец только в гробу.
Читать дальше