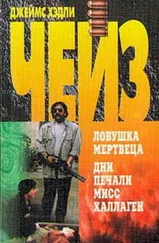Братья доели арбуз. Трава у их ног была усыпана семечками. Земля впитывала красный сладкий сок, золотисто кружились над их головами неведомо откуда налетевшие пчелы и стремительно пикировали вниз. Из ущелий, из пропасти веяло прохладой, усталое солнце играло с листвой и тенями старого дуба. По одеялу гуськом торопливо ползли черные муравьи.
— Не знаю, что и сказать, брат. — Горан с трудом перевел дух. — Ты за тридцать лет ни разу рта не раскрыл, братом не хотел меня признавать. Столько воды утекло… — Игнат молчал, профиль его четко вырисовывался на фоне скалы, лишь стальные желваки ходили на скулах. — Я уж совсем было перестал надеяться, что свидимся мы на этом свете. — Горан снова вздохнул, астма душила его. — Когда получил ответ, глазам не поверил…
Он замолк, воспоминание о матери комом застряло в горле, перехватило дыхание. Материнская рука окатывала его теплой водой, а он, стоя в деревянном корытце, шлепал себя ручонками и верещал от восторга. Опомнился, носком черного ботинка отшвырнул черные семечки.
— Я знаю, дело, конечно, не в том, что дом нужно продать… — Горан на секунду остановился, попытался встретиться взглядом с Игнатом, но у того словно вообще не было глаз — только профиль и за ним медленно гаснущая пропасть. — Но, раз уж мы встретились, скажи хотя бы, за что ты меня так ненавидишь?
Игнат молчал, он сидел, почти не дыша, всей тяжестью тела опираясь на руку — кожа коричневая, вены вздулись, когда-то на ней была — да вот она! — родинка с рыжеватыми волосками. Сейчас волоски побелели.
— Да отвечай же! — почти закричал Горан.
— Ничуть я тебя не ненавижу, — сухо отозвался Игнат и тоже вздохнул, еле слышно, как будто наконец-то снова родился, боролся против кооперирования, отсидел десять лет в тюрьме, работал на шахте и уехал так далеко. Сейчас он словно бы возвращался.
— Тогда…
— Что тогда?
— Тогда почему ты молчал целых тридцать лет? — прохрипел Горан. — Зачем они были нужны, эти тридцать лет? Зачем?.. Что тебе от меня было нужно, чем я перед тобой провинился?..
— Ты — ничем. — В голосе Игната что-то скрипнуло, Горан услышал, как открывается дверь в кладовку.
— Кто же тогда виноват? Кто?
— Никто.
Горан закурил, веки у него нестерпимо жгло. Оба сидели не двигаясь, казалось, само время забыло их здесь в незапамятные времена и сейчас старается отыскать. Нашла их одна из пчел — оторвавшись от сладких арбузных семечек, она кружила над их головами, выписывая золотые ореолы, а может, просто проверяла, живы ли они еще, дышат ли. Горан махнул рукой, и пчела растаяла в густом прохладном воздухе, в котором еще звенели былые листья, птичьи песни, облака.
— Хочу и я тебя спросить, — заговорил Игнат и впервые повернулся к Горану. Глаза у него были прежние. Это был он.
— Спрашивай, — почти всхлипнул Горан.
— Почему тогда, у нас, когда ты искал меня и вошел в кладовку, почему ты не выстрелил?
Железная рука сдавила шею, но Горан все-таки оторвал ее от себя, выкрикнул:
— А ты? Ты почему не выстрелил?
Молчал Игнат. Горан тоже молчал. Круживший над скалами орел, из тех, что не совсем еще перевелись в нашем старом гордом Балкане, высмотрел их с высоты, покружился над ними, потом круто взмыл вверх и стал подниматься все выше и выше, туда, откуда и горы, и люди, и арбузные семечки кажутся одинаково мелкими.
Перевод Л. Лихачевой.
Ивайло Петров
ТРУДНОЕ ВРЕМЯ
Нанко я встретил в ресторане. Мы не виделись давно и, как водится, выпили за встречу, вспоминая далекое детство, ведь мы были односельчане, соседи и сверстники. Когда стали прощаться, Нанко пригласил меня в гости — в новый городской квартал «Чайка». Это тебе не развалюха, говорил Нанко, куда ты приходил когда-то; теперь у меня двухкомнатная квартира со всеми удобствами, на третьем этаже. Тошко уже лейтенант, дочь в этом году окончила гимназию и успела выскочить замуж. Словом, дети пристроены, сам работаю сменным мастером на судоверфи. Приобрел небольшой участок с виноградником, теперь есть где покопаться на старости лет. Чего еще желать?
…У Нанко было три брата. Самый старший умер рано, второй пошел примаком в семью жены. Сам Нанко женился еще до армии, а как вернулся, решил отделиться и жить своим хозяйством. Отчий дом достался меньшому брату, а другой недвижимости, годной для дележа, просто не было. Получил Нанко свой пай за дом, взял пару волов да десяток декаров земли. Клочок нивы, то ли четыре, то ли пять овец дали за женой, и принялся Нанко ставить свой дом. Расчистил место в верхнем конце сада и начал стаскивать туда камни, кирпичи, балки, песок. Много раз я видел, как Нанко со своей молодухой, измазанные по самые уши, месили в яме глину для кирпича. Несколько лет кряду они сновали, как муравьи, туда-сюда, волоча на себе материалы для будущего дома. В это время произошла революция и, как говорится, мир перевернулся с ног на голову, а Нанко все продолжал возиться, как будто ничего не случилось, или ему просто не хотелось, чтобы на него обращали внимание. И только когда пришла пора кооперировать землю, он словно очнулся от глубокого сна, оглянулся вокруг и завопил: «Как это я отдам свой надел?!» Половина крестьян вошла в кооператив, а другие уперлись, превратившись в болячку на теле родного села. Им была предоставлена возможность «пораскинуть умом» и в то же время испытать, как чувствует себя рыба, вынутая из воды. Эти люди тешили себя надеждой, что время идет, глядишь, все и само уладится.
Читать дальше