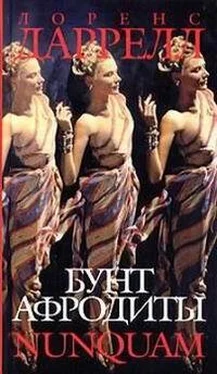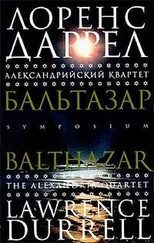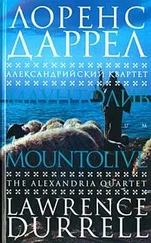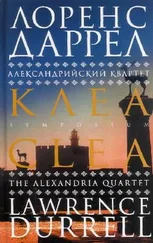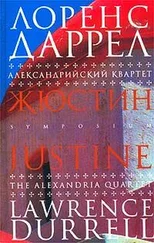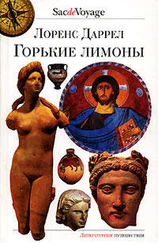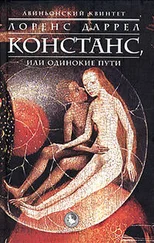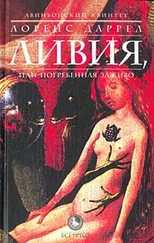Ну и, конечно же, естественный и совершенно неискоренимый садизм, который всегда загорается от мысли о соединении с мёртвым телом, — отчасти из-за его беспомощности: оно не может защитить себя: «Лежи тихо, куколка, и не бузи»; а отчасти из-за куда более важного соображения (надёжно внушённого), что мёртвой любовнице не надоедят чрезмерные ласки. В смерти нет пресыщения. Всё же, помимо внутриутробной позы и фекальной смерти, тайна разложения обещает обновление, новую жизнь для куклы. Всемогущая Афродита, созданная из навоза, из которого созданы все мы, выпросила дар плодовитости — ибо навоз ещё и кормит; смерти брошен вызов изменением кода, формы. Дымящаяся навозная куча тоже из этого мира, из этой культуры, из нашего времени — на самом деле из всех времён. Компост генерирует новую жизнь, новое эхо, своим жаром он бросает вызов роковым законам разложения, смерти.
— Милый, ты стонал во сне.
— Привиделся кошмар: мне снилось, что мы на Всемирной ярмарке и я купил тебе прелестную куколку из сахара. Ты стала её сосать, раскусила, и краска разлилась у тебя по языку, он стал ярко-красным. А когда мы поцеловались, губы у меня тоже стали ярко-красными.
Где-то залаяла собака, ветер тихонько шелестел листьями на спящих деревьях; я напряг слух, и мне показалось, будто я слышу шум моря. Не задумываясь, я поднялся и зажёг свечку под одной из икон в нише; другие глаза в других углах ожили и заморгали. Тогда я вернулся в постель и обнял Бенедикту. Волшебные объятия любовного действа вернули нам покой, цельность и сон — до того невинный сон, что мы как будто придумали его сами как единственную достойную форму самовыражения.
Завтра мы будем в Турции. Завтра мы будем в Турции.
* * *
Итак, мы отправились дальше и теперь летели над вытянутой ввысь, зубчатой грядой северной горной цепи — теперь горы под нами были гораздо выше и более заснеженными; но мы блаженствовали в тепле, гостеприимно встреченные утренним небом с чистыми, нежными перистыми облаками. Небесный мир был безграничен, если не считать оставшихся позади нескольких последних пиков, тянувших вверх головы, словно гуси в полёте. Потом мы покинули этот мир в последний раз, снизившись над вечерним морем, которое едва шевелилось, засыпая. Здесь море и небо соединялись в лавандовых сумерках, делили одни и те же облака и ждали прихода весенней ночи.
Откуда ни возьмись, приветствовать нас явились самолёты-разведчики — из истребителей глядели мрачные создания, похожие на монголоидные манекены с боевыми масками рыцарей японского Средневековья. Разве что они улыбались, кивали и желали нам мягкой посадки, пока мы не запрыгали по твёрдой поверхности воды, поднимая высокую пену и героически преодолевая трудности. Мы неслись как угорелые, ища менее ветреный и более безопасный участок.
Всё, однако, обошлось: нам хватило и времени, и света; громадные заросли рангоутов двигались в унисон, на голубой коже залива были видны проходы, проделанные танкерами и маленькими бригантинами. Солнце уходило за горизонт, и из Мармары тянуло свежестью. Господи, каким жутким всё это казалось мне, когда я курил и вновь смотрел сверху на длинные стены — длинное, неправильной формы укрытие или обмазанная глиной лоза, — какие могли бы возвести и дикари. С большой высоты это гляделось до нелепости хрупким, однако по мере снижения вся масса преображалась, обретала стойкую и грозную твёрдость; поднимались нежные тюльпаны, как рожки пугливых улиток, чтобы бледные лепестки раскрасили лучи заходящего солнца. Привалившись ко мне, Бенедикта тоже глядела вниз; у неё едва заметно раздувались ноздри, и с бледного лица не сходило смешанное выражение ужаса и ожидания, ностальгии и сожаления. Опять мы плыли вместе в великий гобеленовый Полис — и в какое-то мгновение, как по приказу, всё закружилось, словно на поворотном круге ювелира, чтобы показаться в профиль: осталось одно измерение, как в старом театре теней, в котором все роли исполняет великий и невидимый режиссёр.
Путешествие оказалось утомительным; все были раздражены, в той или иной степени не в себе. Вайбарт сидел, уткнувшись в свои бумаги, не обращая на меня внимания и не желая разговаривать. У меня появилось чувство, что он злится на себя за откровенность — не знаю уж почему. В отвратительном настроении был и Карадок, и только обещание налить ему стаканчик настоящей raki или mastika [89] Ракия, мастика — крепкие спиртные напитки.
как будто примиряло его с действительностью. Полагаю, у всех нас мысли начали поворачиваться в одну сторону, туда, где на длинном мысу среди фортов, беседок и разрушенных дворцов — в мифическом Авалоне из мечты Мерлина — где-то там нас ждал Иокас, брат. Наверное, Бенедикта прочитала мои мысли, потому что проговорила тихо, странным образом подтверждая слова Ариадны:
Читать дальше