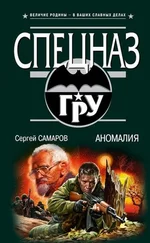— Ой, как же ты теперь домой пойдешь? — спросила она испуганно, обернувшись в дверях подъезда.
— Возьму машину, это не проблема.
— Ну, зачем тебе куда-то ехать, когда вот он, дом. Нет, если в отличие от меня тебя кто-то ждет, тогда пожалуйста. Но если хочешь, я тебе на диване постелю. Ой, да у тебя, наверное, с десяток временных лежбищ, квартир и уютных дачек с безропотно готовыми тебя приютить хозяйками, так ведь?
— Врать не буду, — отвечал он. — Когда-то такие лежбища действительно существовали. Меня удивляет другое…
— Ах, я знаю, про что ты. Про ту легкость, с которой я приглашаю тебя домой. Странные вы все-таки существа. Вообще-то я всегда прямо говорю о своих намерениях. И если сказала «диван», то это и означает «диван» и ничего другого более.
— Ну, я, в общем-то, согласен на диван.
— По моему глубокому убеждению, соитие не только мужчину, но и женщину ни к чему не обязывает. А вы считаете, что для нас в отличие от вас… для так называемых порядочных женщин… секс значит что-то очень важное, что это шаг, на который нужно решиться после долгих колебаний и взвешивания, если ты, конечно, дорожишь своей так называемой порядочностью и не хочешь, чтобы тебя называли нехорошим словом. Почему-то считается, что после близости что-то меняется, что что-то важное женщина мужчине отдает.
— А разве это не так? Это только холодные женщины близостью не дорожат и могут бросить ее любому — как кость собаке, милостыню нищему. И, соответственно, наоборот — чем больше тебе это небезразлично, тем более разборчивой и пристрастной ты становишься.
— Я не о том. Вот считается, что после постели женщина и мужчина становятся друг другу роднее.
— А это не считается — это на самом деле так. Странно, что вообще находится человек, способный это оспорить.
— А что меняется-то после? — Поднимаясь по лестнице, она резко встала, обернулась и бросилась ему доказывать. От внезапности, от резкой этой остановки Камлаев въехал носом в ее норковый воротник. — Ты не хуже меня знаешь, что десятки мужчин и женщин, раздеваясь и набрасываясь друг на друга, сливаясь слюной и обливая друг друга секрецией, через несколько минут или часов совершенно спокойно встают и расходятся как ни в чем не бывало — совершенно чужими друг другу. Через несколько дней или месяцев они проделывают все то же самое с другими мужчинами и женщинами и снова точно так же расходятся. Или — что еще хуже — начинают жить вместе совершенно чужими людьми. Да хотя бы тот факт, что они преспокойно делают друг другу гадости, зачастую намеренно причиняя друг другу боль, говорит о том, что даже такая близость ровным счетом ничего не значит. Удовольствие — да, спору нет. Придирчивость выбора, не с каждым? Разумеется, не с каждым. Но должно же быть и что-то еще. Что-то еще, благодаря чему ты сможешь почувствовать и родство, и преданность, и ответственность. Не важно, до постели это произойдет или после. Мне двадцать шесть лет, и я до сих пор не знаю, что это.
— Может быть, то, о чем ты говоришь, должно произойти с самого начала.
— Ну, это романтическая точка зрения. У меня, ты знаешь, столько раз так было — с самого начала… ну, то есть целых два раза, я считаю, что это много. Ну, и что из этого вышло? Я прожила с человеком четыре с половиной года, и все это время у нас был так называемый хороший секс. И что? — я чувствовала, что с таким же энтузиазмом и доверительностью я могу разговаривать и со своим парикмахером, и с лечащим врачом, и даже с консультантом в мебельном салоне…
Прищурившись, она принялась шарить в сумке, отыскивая ключи. У нее была стереотипная железная дверь в пухлой кожаной обивке и с уродливой накладной коробкой. Попав в прихожую, он тут же уперся взглядом в собственное отражение: из овального зеркала глянул на него немолодой мужчина с чуть удлиненным, свирепо-неподвижным лицом, не располневшим, не обрюзглым, а скорее ставшим просто более массивным, чем было оно двадцать лет назад. Камлаев видел те черты, что общепризнанно совпадают как с сексуальными предпочтениями молоденьких девушек, так и с фантазиями зрелых домохозяек. Он глядел на овал упрямо выпирающего подбородка, на глубокие носогубные складки, на тяжелеющие с возрастом брыли и частую сетку морщин у глаз. Он видел стоящее в этих глазах тяжелое и упрямое презрение к миру и, наверное, уже и к самому себе. Он видел уставшего, желчного человека — как будто патриция времен упадка империи, в чертах которого выражаются чувственность, похотливость, непреклонная воля к власти и явное отсутствие каких бы то ни было моральных принципов. Он смотрел в свои пустые голубые, чуть полинявшие от времени глаза. Он пытался разглядеть в них что-то еще, но ничего, кроме обычного их выражения, не видел — лишь какое-то тоскливое, слегка недоуменное и спокойное узнавание всего, на что ни посмотришь.
Читать дальше