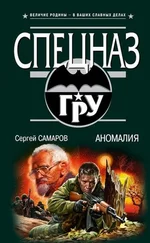Он приложился к бутылке и в озлоблении пнул, сшиб под корень лопух, разорвав висевшие на нем стеклянистые нити. Но бесчинствовать и бесчестить творение дальше ему не захотелось. Он аккуратно отставил в сторону бутылку, в которой еще плескалось на донышке, и, обхватив руками сдвинутые колени, горячо, настойчиво зашептал:
— Господи, если ты есть, сделай так, чтобы она была здорова и жива и чтобы приложила к груди своего ребенка. Накажи меня как хочешь, но только не через нее. Яви не справедливость свою, но совершенство. Ведь каждый младенец угоден Тебе. Разве что другое имеет значение? Что-то, кроме счастливых детей Твоих, нужно Тебе? А она не согрешила перед Тобой ничуть, ни словом, ни делом, клянусь Тебе. Она ни в чем не виновата, моя Нина, и она так любит жизнь, так любит мир Твой… накажи меня как угодно, но ее помилуй и сохрани.
Наутро он явился в клинику трезвым и гладко выбритым и узнал, что ночью, которую он провел без сна, у Нины случилась истерика, такая, какой не бывало прежде, и чтобы успокоить ее, пришлось сделать два сильнодействующих укола. А сейчас она спала, и Камлаев пошел посмотреть на спящую Нину, руки ее и во сне придерживали живот, дыхание не сбивалось, тревожные морщины на лице разгладились, а Камлаев все не шевелился, все смотрел, остерегаясь дышать слишком громко и боясь разглядеть на Нинином лбу, на губах, на веках примету малейшего неблагополучия. Но лицо ее оставалось спокойным, дыхание ровным, и камлаевское сердце остро сжалось от плохо знакомого, нового чувства, которое он, как трезвомыслящий господин, запрещал себе испытывать и которое называлось, по всей видимости, доверием. Камлаев вверял себя и Нину кому-то, чего он доселе не делал ни разу в жизни, полагаясь только на себя и пребывая в уверенности, что раз сам бессилен, то никто не поможет.
Весь день он гулял в окрестностях клиники, бубня себе под нос неявный мотив и вышагивая чистейшую, невесомую, как паутина, колыбельную, робко-робко, чтобы не потревожить, не выдать себя неосторожным движением, прикасаясь к тишине, к Нининым векам, чистому лбу, к Нининым губам, из которых исходило ровное и теплое дыхание, приникая ухом к животу, в котором спал младенец, еще такой маленький, слабый, уязвимый и обреченный появиться на свет вдвойне беззащитным, беспомощным. И нужно было обеспечить непрерывность этого спокойного, свободного дыхания, и Камлаев, лаская слух младенца едва уловимыми тембровыми сменами, почти растворял аккорды в настоянной на пронзительной нежности тишине.
Так проплутав весь день без маковой росинки во рту, Камлаев к вечеру вернулся в клинику. В палату к жене он вошел бесшумно, и Нина, глядевшая в приоткрытое окно на пернатое, щебечущее дерево, не сразу заметила его. Ее взгляд выражал сейчас зачарованность существованием как таковым, зачарованность бесконечным струением времени (как будто колыбельная Камлаева и в самом деле сработала, как будто Нининого слуха и в самом деле достигли плывущие, как облака, камлаевские аккорды), и видно было, что она испытывает сейчас бесконечное изумление и перед этим щебечущим деревом, и перед миром вообще, бесконечное изумление и бесконечную ему благодарность. И Камлаев увидел сразу всю как бы растянутую во времени цепочку таких вот признательных оцепенений и понял, что точно так же она смотрела на мир и в шесть, и в одиннадцать, и в двадцать лет, и на приеме у стоматолога, и в школе с углубленным изучением английского, в которой ей удаляли последний молочный зуб, и на самом верхнем ярусе лектория под скрипуче-монотонный голос профессора, разъясняющего суть эстетических теорий, философских концепций…
Он неловко переступил, Нина вздрогнула, приходя в себя, и повернула освещенное признательностью лицо к Камлаеву.
— Я приходил к тебе утром — ты спала, — начал он.
— Я знаю. Я, наверное, совсем сошла с ума, но сегодня я весь день ощущала твое присутствие. Как будто ты все время думал обо мне и находился рядом.
— Ну, по-моему, это свидетельство душевного здоровья, а вовсе не наоборот, — заставил он себя улыбнуться. — Вот если бы тебе показалось, что рядом нахожусь не я, а папа римский или, скажем, доктор Курпатов, то тогда да… тогда можно было бы говорить, что ты попрощалась с рассудком.
— Так ты думал или не думал? Все время?
— Нет, на футбол ходил!
— Ты — молодец, так хорошо и сильно думал, что я всего перестала бояться. — Она протянула к Камлаеву руку — совсем как ребенок, который не хочет, чтобы отец уходил (жест одновременно беспомощный и требовательный).
Читать дальше