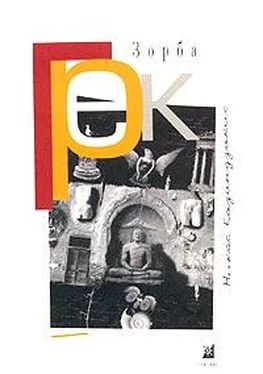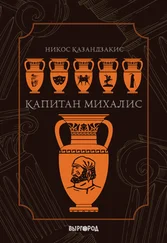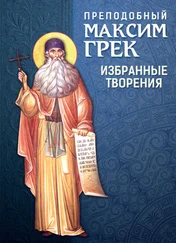- Хозяин, - позвал я, - еще порцию рома!
- Две порции! - крикнул Зорба. - Одну выпьешь со мной ты, и мы чокнемся. Настойка и ром вместе не поладят. Поэтому ты тоже выпьешь со мной рому, надо спрыснуть наш договор. И мы чокнулись. К этому моменту совсем рассвело. Пароход подавал гудки. Возчик, перетащив мои чемоданы на судно, сделал мне знак.
- Да поможет нам Бог, - сказал я, поднимаясь. - Пошли!
- …И дьявол! - невозмутимо добавил Зорба.
Он наклонился, сунул сантури под руку, открыл дверь и вышел первым.
Море, залитые светом острова, мягкость осени, прозрачная сетка мелкого дождя, омывавшая бессмертную наготу Греции. «Счастлив, - думал я, - тот человек, которому дано было видеть Эгейское море».
Немало есть радостей в этом мире - женщины, дела, идеи. Но рассекать волны этого моря ранней осенней порой, шепча название каждого из островов, - мне кажется, нет большей радости, чем та, что погружает душу человека в рай. Ни в каком другом месте нельзя перейти столь безмятежно и непринужденно от действительности к мечте. Границы исчезают, и мачты даже самых старых судов устремляют к небесам свои реи и флаги. Говорят, что здесь, в Греции, чудеса просто неизбежны.
В полдень дождь прекратился, солнце, прорвавшись сквозь мягкое и нежное облако, будто только что искупавшееся, стало ласкать своими лучами воды и земли. Я находился на носу и был просто опьянён этим чудом.
Находившиеся на судне греки были дьявольски хитры, с хищным блеском глаз, среди них были благонравные и ядовитые жеманницы; головы всех были полны базарного хлама; слышались разговоры о политике, ссоры, звуки расстроенного рояля. Повсюду царила атмосфера провинциальной нищеты. Нас обуревало желание ухватить судно за оба его конца, погрузить его в пучину и хорошенько потрясти, чтобы вытряхнуть из него всё живое - людей, крыс, клопов, а потом снова пустить его по волнам, чисто вымытым и опустевшим.
Однако иногда меня охватывало сострадание, близкое к состраданию буддизма, отвлечённое, словно метафизический силлогизм. Это была жалость не только к людям, но и ко всему свету, который борется, кричит, плачет, надеется и не видит, что всё это не что иное, как фантасмагория небытия. Сострадание к грекам, судну, морю, к самому себе, лигнитовой шахте и к рукописи «Будда» - ко всем этим никчёмным скопищам теней и света, которые внезапно всколыхнули и осквернили чистый воздух.
Я смотрел на Зорбу: измождённый, с восковым лицом, он сидел на свёрнутых канатах на носу судна. Старик сосал лимон и напряжённо вслушивался в спор пассажиров: одни поддерживали короля, другие - Венизелоса; он покачал головой и сплюнул.
- Старый хлам! - пробормотал он с отвращением. - И не стыдно им!
- Что ты называешь старым хламом, Зорба?
- Да всё это: королей, демократию, депутатов, настоящий маскарад!
В мозгу Зорбы современные события были всего лишь старьём, ибо сам он их уже пережил. Такие понятия, как телеграф, пароход, железные дороги, расхожая мораль, родина, религия в его сознании, наверное, имели вид старых ржавых ружей. Его миропонимание обгоняло время.
Скрипели снасти, берега танцевали, женщины становились желтее лимонов. Они сняли с себя своё оружие - румяна, корсажи, булавки для волос, гребни. Их губы были бледны, ногти посинели. Старые сороки сбрасывали перья, падали взятые взаймы пёрышки - ленты, фальшивые ресницы, фальшивые родинки, бюстгальтеры, и, видя их рвотные гримасы, невольно испытываешь и отвращение, и огромное сострадание.
Зорба тоже стал жёлтым, потом зелёным, его сверкающие глаза потускнели. Лишь к вечеру его взгляд оживился. Он показал мне на двух дельфинов, которые резвились, соперничая в скорости с судном.
- Дельфины! - сказал он радостно.
Впервые я заметил тогда, что указательный палец на его левой руке отрезан почти наполовину. Я вздрогнул, почувствовав некоторую неловкость.
- Что случилось с твоим пальцем, Зорба? - крикнул я.
- Ничего! - ответил он, задетый тем, что я не выразил особой радости при виде дельфинов.
- Это какая-нибудь машина тебе его оторвала? - продолжал я любопытствовать.
- Что ты тут болтаешь о какой-то машине? Я его сам себе отрубил.
- Ты, сам? Зачем же?
- Ты никак не можешь понять, хозяин! - сказал он, пожав плечами. - Я тебе говорил, что занимался всем на свете. Так вот, однажды я был гончаром. Это ремесло я любил, как сумасшедший. Знаешь ли ты, что такое взять комок глины и делать из него всё, что захочешь? Фрр! Ты раскручиваешь круг, и глина вращается, как одержимая, в то время как ты, её господин, говоришь: сейчас я сделаю кувшин, тарелку, а сейчас лампу и всё, что захочу, клянусь сатаной! Вот это и называется быть мужчиной: свобода! Он забыл о море, больше не сосал лимон, глаза его снова стали ясными.
Читать дальше