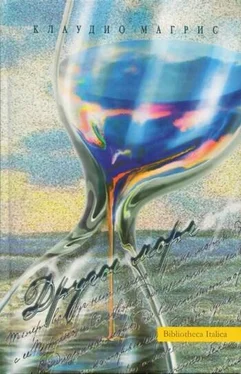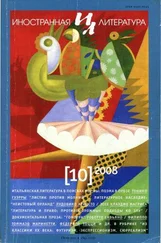Эти надписи на стенах — ложь тех, кто ощущает, что скоро станет победителем, но ложью было бы также с презрением отрицать то, что эта красная истрийская земля является славянской землей, презрение падет обратно на твою голову, как плевок в небо. Поступают и другие новости. Под Альбоной, по мере того как бои усиливаются, сторонники Тито вперемешку бросают в пропасть или топят в море с перевязанными проволокой руками итальянцев, виновных и безвинных. Вековой волдырь прорывается, если бы можно было вернуться назад за школьные парты в Гориции, говорить о тех замалчиваемых вещах, что теперь творятся, если бы Карло выучил словенский язык, то, может быть, кто знает… Смешно, даже возврат назад ничего не даст, все повторилось бы сначала, те же ошибки, тот же ужас.
Немцы депортировали в Освенцим Эмму и Эльду, а Паула остается в Швейцарии. Одна соседка, проводившая спиритические сеансы, сказала, что им нечего бояться, потому что она вызвала к своему столику Карло, и тот ответил тремя ударами, означавшими, что опасность им не грозит и они могут оставаться. Эмма умерла в 1943 году, как только прибыла в лагерь, ее дочь умерла год спустя. Карло и его брат Джино покончили с собой, будучи еще очень молодыми, в них старинная еврейская тоска разверзлась неизлечимой раной. А для того, чтобы убить восьмидесятидевятилетнюю еврейку, потребовался Освенцим и вся мизансцена Третьего рейха.
Вот так, этот тысячелетний рейх — доказательство того, что риторика сеет смерть и разрушение. «Да, — повторяет Энрико, в письмах к Пауле и некоторым своим друзьям, — Карло был поистине величайшим человеком». «Его солнце, — пишет он, — даже более яркое, чем у Парменида и Платона, и лучи его идут еще дальше». Эхо всех этих трагедий и позора доносит до его уха, приглушенно и изуродованно, его имя.
Арджия тоже погибает в лагере. Она не еврейка, но она не смогла смолчать, когда вокруг такое творилось, она открыто высказывалась против нацистов, депортировавших евреев, и, по слухам, связалась с партизанами. Кто-то сказал Энрико, что она так говорила и так бесстрашно поступила в память о Карло. Энрико ничего на это не ответил и, нахмурившись, посмотрел на пустынные рощу пиний и берег Сальворе, но кому и что он мог бы сказать среди этих скал; он нехотя подумал о темных глазах Паулы, и о том, что, может быть, было бы лучше никогда больше ее не видеть.
Девятый корпус армии Тито добирается до Триеста и входит в него 1 мая 1945 года, за неделю до освобождения Загреба. Красные и бело-красно-синие флаги закрывают небо, как пунцовое облако, и в этом медном свете садовник косит как ни в чем не бывало траву; протестом после долгой тьмы является и все более распространяющееся темное насилие. В Гориции титовцы среди прочих забирают Пину, жену Нино, которая больше уже не вернется.
Арестовывают и отправляют в Умаго и Энрико вместе с капитаном Пелиццоном. Невыносимо уже то, что приходится столько времени находиться в одной камере со столькими людьми. В камере стоит невыносимая вонь, запах острого пота, появляющегося от страха, а не от летней жары или напряженной работы. Надо не бояться ни смерти, ни чего-то другого, не бояться ее бояться. Нелегко жить, будучи убежденным в наступлении этого мгновения, зловоние, допросы, избиения, не надо надеяться, что все это пройдет, что наступит будущее, когда дверь откроется и отсюда можно будет выйти. Тут внутри следовало бы быть святыми, только святые ничего не боятся, но он никогда не просил, даже у Карло, чтобы его записывали в святые. На том их чердаке ему хотелось лишь, чтобы ему было хорошо вместе с другими друзьями, вот и все.
У Энрико есть страх, но у него есть и характер, в камере ему не удается не только поразмышлять о Сократе, но и суметь сдерживать свою нетерпимость. Он с негодованием отказывается от супа, чем давать его ему, лучше будет, если его выхлебают те типы из Озна [68] Озна — Одельенье заштите народа (Државна сигурност) (сербскохорв.), югославская секретная служба.
, эта похлебка как раз то, что надо для этих бандитов из секретной полиции, подходящая жратва для свинарника, к которому они привыкли. Когда они задают ему идиотские вопросы и угрожают, он злится и задевает их, ругает их и на словенском, и на итальянском, обращается с ними как с собаками, которых прогоняют из-за стола, и тогда они по-настоящему выходят из себя.
Это забавная штука, когда тебя бьют. Конечно, не только забавная. Под этими палочными ударами Энрико кроме боли ощущает и свою потерянность. Как было глупо с его стороны так нетерпимо относиться к детям, ведь они в мире зачастую чувствуют себя так, как он под ударами палок. Он пытается вспомнить, каким он был в детстве, но ему ничего не приходит в голову, не так-то легко что-либо вспоминать, в то время как пытаешься прикрыть от ударов лицо и живот.
Читать дальше