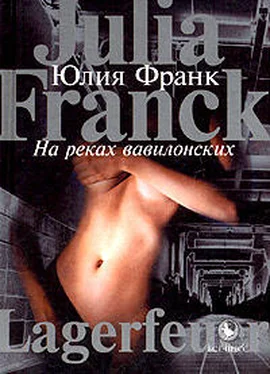Кристина Яблоновска совершает оплошность
Чашкой я зачерпнула горячей воды из лохани и полила отцу голову. Намылила ему затылок. Он поджал губы и не издал ни звука, а я старалась, чтобы мыло не попало в рану у корней волос.
— Поосторожней! — Он хотел шлепнуть меня ладонью, но угодил по краю фартука. В воздухе носились тончайшие мыльные пузыри. Когда я стала вытирать ему волосы, и он поднял голову, вода в лохани была красной. Я осторожно провела полотенцем по его голому волосатому плечу; вся верхняя половина туловиша у него была покрыта красными пятнами.
— Что ты там делаешь? — Он опять хотел стукнуть меня ладонью.
— Ничего.
— Да ведь больно же, ай! Перестань. Почему ты такая неловкая, твоя мать была совсем другая. Какая ты беспомощная, ай! И грубая. Оставь меня в покое.
Но я продолжала натирать ему спину мазью, которую дала мне для него женщина в пункте первой помощи.
— Позаботься о своем брате, а меня оставь в покое, — ворчал он.
Я утаила от него, что Ежи меня уже не узнает, несмотря на это, врачи уверяли, будто к Рождеству его выпишут. "Домой", — говорили они, имея в виду лагерь, в котором он еще меньше признал бы свой дом, чем во мне — свою сестру. Я принесла из ванной свежей воды, взяла последний чистый уголок полотенца, чтобы намочить его в маленькой миске, осторожно вытерла кожу вокруг ран и смыла вытекшие из них кровь и грязь.
— Открой рот, — сказала я ему, но он сжал губы и дожидался момента, когда я отвернусь, чтобы выжать полотенце.
— Толстая и грубая.
— Зачем тебе вообще понадобилось слезать с кровати?
— Толстая и грубая.
— Неудивительно, что они тебя поколотили.
— Я танцор, да еще какой.
— Но ты же не можешь заставить женщину танцевать.
— Она хотела.
— Ах, вот как?
— Да, это она хотела, а вовсе не я. Ай!
— И поэтому ее муж тебя отлупил?
— Поэтому, да. Я хотел остаться наверху.
— Ты должен говорить более четко, папа, я с трудом тебя понимаю. Ты все сильнее шепелявишь. И не ерзай, не то мыло попадет в раны.
— Ба! С какой стати? Он стащил меня с постели. Это, мол, оскорбление, если я не желаю танцевать с его женой.
— Оскорбление. — Разумеется, ни одному слову отца я не верила. Но ему необязательно было это знать.
— Его жене, если она чего-то желает, никто никогда не отказывает, сказал он.
— Ах, папа.
— Мне она показалась слишком старой. Просто — напросто слишком старой. Почему это я должен танцевать с такой старой кошелкой?
— Она наверняка лет на двадцать тебя моложе, если не на тридцать.
— Ба, лет на двадцать моложе. Так сколько же ей? Пятьдесят с гаком? Будь ей даже двадцать, — с такими я не танцую. Вот с этой Нелли — с ней бы я потанцевал. Может, она опять придет к нам в гости?
— В гости к нам она не приходила, папа. Ей надо было уйти, и она оставила у меня своих детей.
— Вот с ней бы я потанцевал, а больше ни с кем.
— Ах…
— Вот это было приятно, почеши меня еще разок там, внизу. Да, здесь.
Я почесала отцу спину в области копчика, пока он опять не вскрикнул "Ай!", и я не принесла полотенце, чтобы его вытереть.
Я промокнула ему лицо.
— Что у тебя со ртом, почему ты так поджимаешь губы? Неудивительно, что тебя можно понять только с пятого на десятое. Открой рот как следует. — Отец не ответил. — Да что с тобой такое? — Пальцами я надавила ему на уголки рта, пока он не воскликнул:
— Ай!
Одного резца у него не хватало, другой был обломан.
— В чем дело, папа?
— Я не хотел с ней танцевать.
— Он выбил тебе зубы.
— Ничего подобного.
— Ну как же. Он выбил тебе зубы.
— За то, что я не хотел с ней танцевать.
— Он выбил тебе зубы за то, что ты не хотел танцевать с его женой? — Непостижимо. Чем старше делался мой отец, тем более изобретательно строил он свой собственный мир.
Он промолчал и опять поджал губы, словно от этого что-то зависело.
Открылась дверь, и в комнату вошел новый сосед. В руке он держал черный пластиковый пакет, на котором красными буквами было написано "Беате Узе". Он удивленно посмотрел на моего отца, возможно, впервые увидев его не на кровати. Все то время, что этот человек жил вместе с нами, он неизменно носил с собой этот пластиковый пакет. Он положил сигарету на край пепельницы, стоявшей возле лохани с красной водой. Дым от сигареты щипал мне глаза. Сосед был немец. Его ботинки оставляли следы мокрой кирпичной крошки. Дорожки явно посыпали, — наконец-то. В испачканных снежной слякотью сапогах, в которых он смахивал на ковбоя, немец встал на нижний ярус кровати, чтобы поискать что-то на своем, верхнем. Пришлось мне обратить его внимание на то, что внизу находится койка моего брата, и незачем оставлять на ней следы подошв, даже если мой брат уже несколько месяцев не может пользоваться ею и будет в силах это сделать, возможно, только на Рождество. Одним прыжком он вскочил на кровать. Черный пакет зашуршал, зашелестела бумага. Сосед открыл узкую картонную коробку и вынул оттуда маленький транзисторный радиоприемник. Он включил радио и принялся искать какую — нибудь станцию. Сначала мы услышали английскую речь, RIAS-Берлин, потом он поймал музыкальный канал. Let the words of our mouth and the meditation of our heart be acceptable in thy sight here tonight. Я могла бы пропеть вместе с ними каждое слово, ни одного не понимая. Где бы я ни находилась, — в столовой, в прачечной, даже во дворе, ведь на равном расстоянии между блоками размещались большие репродукторы, вероятно, поставленные для передачи указаний и как будто бы ждущие инструкций по эвакуации, — эта песня звучала по многу раз в день. Казалось, она требовала от нас хорошего настроения, — но тщетно. Немец достал из пакета набор пивных бутылок. Одну бутылку он открыл и немного отпил из нее. В такт музыке он похлопал себя по колену и подхватил припев. Мой отец, все еще поджимавший губы, спросил, что я сказала. Я покачала головой.
Читать дальше