«Я всего лишь сухая корочка», — подумал он, возвращаясь после приема.
Он ощущал себя запыленной хлебной коркой. Любовь его опустошила. Он не осмеливался высморкаться, ни даже поковырять в носу. Уверен ли я, что способен повелевать миром?
Приключение с фюрером полностью переменило Поло. Оно, однако, совершенно не уменьшило его злобности, хотя последняя несколько размягчилась. То есть теперь ему хотелось не колоть, а кусать. Если бы в любовной дуэли Гитлер насадил его на стручок, в дальнейшей жизни паренек, скорее всего, испытывал бы потребность резко обернуться, чтобы сбросить с себя призрак, который ощущал бы за своей спиной. Но поскольку он сам всадил Гитлеру хобот в зад, он шел по жизни немного раскорячив ноги, как если бы на его лысаке болтался насаженный на него государь. Наши члены хранят память о жестах, которые могли бы совершить.
Когда, уже раздетый, уложенный в постель, мальчишка не давал себя поиметь в простынной темноте, я умел найти какие-то жесты, способные выразить мое отчаяние. На ярком свете я бы не сумел их повторить (хотя они были весьма выразительны и не нуждались в помощи рта и глаз). Речь идет об особой манере пожимать чужое плечо, нервно вытягивать ляжку, прижимать собственный живот к его спине, иногда обвивать свою руку вокруг его локтя; но, по крайней мере, парнишка давал мне понять, что до него дошла моя печаль и он бы хотел меня утешить. Едва освободившись, то есть убедившись после прощального кивка выведшего его на улицу Герхарда, что никакой шпик за ним не увязался, Поло почувствовал, что приключение кончилось. Ему стало страшно, а глаза глядели злобно и не моргая. Конечно, тысяча марок, без слов положенная ему в карман, помешать не могла. Несколько отвернув голову влево, он пошел от дворца, сжав губы и прищурившись. Как и раньше, он готов был воспользоваться, несмотря на свое благоприобретенное маленькое состояние, любым случаем поживиться на дармовщинку. А прежде всего — разжиться рубашкой, которую он купит, но вынесет из магазина, словно краденую.
Поскольку мое искусство заключается в эксплуатации смерти, ибо я поэт, нечего удивляться, что меня занимают подобные материи, конфликты, отметившие самую патетическую из эпох. Поэт занимается злом. В этом его роль: показать заключенную во зле красоту, извлечь ее оттуда (или вложить такую, к какой он тяготеет, может, из гордости?) и применить с пользой. Заблуждение интересует поэта потому, что только оно учит истине. Повторяю здесь, что поэт асоциален (по видимости), он воспевает заблуждения, зачаровывает их, чтобы они служили красоте завтрашнего дня или даже становились ею. Привычное определение зла внушает мне, что оно — лишь вместилище Бога. Поэзия, или искусство переработки отходов. Заниматься переработкой дерьма, если вам угодно его кому-то скормить. Под злом я здесь разумею грех против законов, социальных или религиозных (уложений государственной религии). А между тем Зло реально осуществляет себя в факте предания смерти или в том, что мы воспрепятствовали жизни. Не пытайтесь опереться на это поверхностное определение, чтобы заклеймить убийства и убийц. Убить часто значит — даровать жизнь. Убийство порой оборачивается добром. Это можно определить по счастливой возбужденности убийцы. Это радость дикаря, который убивает ради своего племени. Ритон, впрочем, убивает ради убийства, но это не так важно. Грех не в этом. Он убивает, чтобы жить, поскольку эта бойня — повод или средство подняться до больших жизненных высот. Единственное преступление — уничтожить себя самого, ведь, по существу, это значит убить единственную жизнь, которая имеет цену: жизнь своего духа. Я плохо знаком с теологами, но подозреваю, что в глубине души они здесь на моей стороне. Ритон не покончит с собой, разве что… Впрочем, поживем — увидим. До последней доли секунды он, что мне дорого, будет продолжать жить разрушением, убийством (то есть злом, если послушать вас), исчерпывая ради восторженного парения и в нем самом (а парение здесь — путь ввысь), все более распаляющемся, свою социальную суть, или футляр, из которого появится на свет ослепительнейший бриллиант; и эта суть — одиночество, или святость, то есть еще один род бесконтрольной, нестерпимо блистательной игры, торжества собственной свободы. Тому же, кто мне возразит, что Ритон не одинок, потому что он любит, хочу ответить: без этой любви он не дошел бы свободно до вершины. Сама необходимость вынудила ополченцев, прежде всего нашего героя, стрелять во французов, но в расчет надо брать только одно: одиночество, если, конечно, мы его принимаем. Отказ от него, если он неизбежен, — всегда уныние, грех, осуждаемый, насколько помню, одной из заповедей. В конечном счете я пишу эту книгу и предлагаю вам все это, показываю, хромая и часто перескакивая с пятого на десятое, потому что остаюсь на своей скале одиночества, коль скоро род моей эротики, моя дружба с самым жестким и прямым из юношей, святым, если послушать людей, рождает именно этот образ: предателя в нимбе. Только под властью еще юной смерти Жана, весь красный от этой смерти и от символов его партии, пишу я эти строки. Цветы, которые я бы желал в несметном множестве обрушить на его маленькую могилку, затерянную в тумане, быть может, еще не увяли, а я уже признаю, что самым главным персонажем, ради которого ведется этот рассказ о моей боли и моей к нему любви, оказался блистательный монстр, предавшийся самому роскошному из одиночеств, тот, по отношению к которому я испытываю своего рода экстаз, потому что он разрядил в его тело смертоносную очередь из своего автомата.
Читать дальше






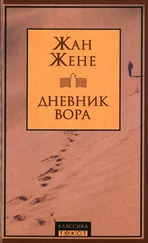


![Жан Жене - Влюбленный пленник [litres]](/books/431681/zhan-zhene-vlyublennyj-plennik-litres-thumb.webp)
