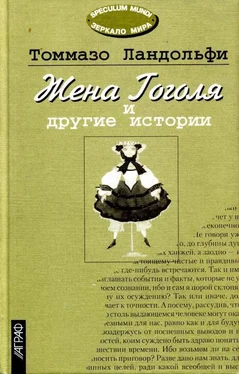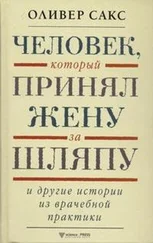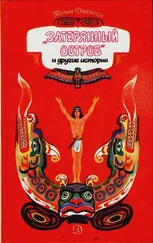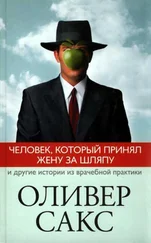И внезапно я понял. Вдруг мне все стало ясно. И это было как освобождение, как оглушительный звон колоколов: ужас, отвращение, радость, сладострастие, тысячи иных чувств, которые дремлют в нас, которым, быть может, нет названия, смешались в этом благовесте души, внятном даже телесному слуху. Теперь я знал, что должен делать. И знал, что должен это сделать немедленно. Правда, не знал как. Той ночью я обречен был — не скажу действовать, но думать и чувствовать на ощупь, рывками приближаясь к истине.
А она глядела на меня из-под ресниц своим сумрачным взглядом, быть может слегка разочарованная или погрузившаяся в свою девическую задумчивость. И разумеется, собиралась встать и одеться. Я взял со стула ее чулок и обвил ей вокруг шеи.
— А знаешь, я ведь могу убить тебя так. — И чуть-чуть затянул чулок.
Она нервно рассмеялась и поднесла руки к горлу. Я затянул потуже, на лице у нее появилась гримаса, которая, не будь она немой, сопровождалась бы неопределенным восклицанием: «Ох!», выражающим разве что шутливую досаду, но уж никак не волнение. Я затянул еще чуть-чуть... на самом деле это была проба, и я понял, что должен действовать не так, что так я не достигну ничего, то есть ничего совершенного. Не таков был желанный образ, которому надлежало унять сумбур моего ума и чувств, умиротворить меня самого и все вокруг. Не таков был образ мира в моей душе. Каким же он должен был быть? Эта новая проблема жестоко уязвила меня, изгнав все остальные мысли. Я оставил девушку в покое и растерянно огляделся: я искал орудие, чтобы ее убить, и не находил. Она вздрогнула, вероятно замерзла или же, быть может, в своем неведении все же ощутила озноб не от холода. Закрыла глаза и натянула на себя простыню до самого подбородка. Так я увидел ее уже в саване, и это в какой-то мере ускорило ее конец. Но этот саван был белым, а он не мог, не должен был быть таким. И в то же время я сострадал ей, сострадал ее неизбежному страданию; я хотел бы избавить ее от этого, хотел бы, чтоб она не догадалась... И действительно, как мог я рассчитывать, что она, еще ребенок, с радостью примет смерть как высшее свершение. А может быть, я мог рассчитывать на это, может быть, я клеветал на нее?
Тут меня осенила сумасбродная, ребяческая мысль — уж не знаю, по какой нелепой ассоциации она залетела мне в голову.
— Послушай, — сказал я ей, — знаешь ли ты, что вот этим моим указательным пальцем я могу резать и наносить раны? Одним только пальцем. Не веришь? Сейчас увидишь сама. Дай мне руку.
Она протянула мне свой указательный палец, худенький, чуть искривленный.
— Теперь — внимание, — сказал я, держа ее палец в левой руке, — я потру мой палец о твой, и через секунду ты почувствуешь, что порезалась. Видишь, у меня в руке ничего нет. Ну, готова?
Это был известный мальчишеский фокус, но я надеялся, что она о нем не слыхала: держишь чей-то палец в левой руке, трешь его указательным правой, а в это время снизу в него невидимо впивается ноготь большого пальца левой руки, и жертва этой шутки воображает, будто испытывает боль от трения. Я проделал это с ней, и спустя несколько секунд она, скривив рот от боли, может быть, от изумления, отдернула руку.
— Видишь, видишь?
Она ничего не ответила, и я опять почувствовал, что она сейчас встанет и уйдет. Время было позднее, до рассвета уже оставалось недолго.
— Это фокус, я потом тебе объясню, в чем тут дело. Но сейчас, перед тем как ты уйдешь (тебе, конечно, пора, а то завтра ты будешь спать на уроках), давай полежим пять минут рядышком, просто так. Хочешь?.. Потушим свет, и в темноте каждый увидит то, что ему нравится. Только на пять минут.
Я погасил свет и, прежде чем лечь с ней рядом, протянул руку к комоду. Я точно знал, где лежит то, что мне нужно: старое бритвенное лезвие. Утром я бросил его сюда, потому что не знал, как от него избавиться: не хотел бросать в помойку, боялся, чувствительная душа, что мусорщик порежет себе руки! Бритва была старая, затупившаяся, но для моих целей еще достаточно острая... Я уже сказал, что это была сумасбродная, ребяческая мысль: ну можно ли придумать что-нибудь более неподходящее? Неужели я и в самом деле мог думать, что она ничего не заметит?
— Что ты видишь? Ах, да, в темноте ты не можешь об этом рассказать. А вот я вижу... я вижу фьорд. Знаешь, что такое фьорд? Это залив, замкнутый, сжатый и сдавленный высокими-высокими горами, неприступными и скалистыми. А вода там, внизу, темна как сталь, но не так, как озеро твоих глаз, они-то ведь темны как ночь. Посмотри: вот отсюда, если наклониться, мы можем увидеть внизу наше отражение, понятно, совсем маленькое. Время от времени туда прибывают тучи мышей, они приходят туда умирать, и никто не знает, почему: бросаются в воду и находят там смерть... Много лет назад над этим фьордом пронесся какой-то человек верхом на козе, а может быть, там до сих пор еще проносятся девы на небесных конях. Но кто сейчас сумеет их увидеть? Их увидим мы с тобой, нам с тобой это предстоит, так думаю я... а ты?
Читать дальше