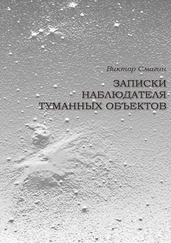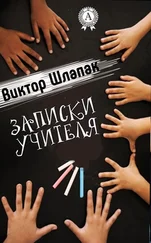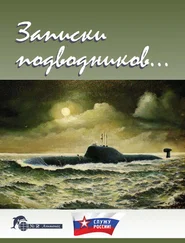И открылось следующее: Сева сидел боком на падающем стуле, но стул не падал; к Севе подступил милицейский и размахивал чем-то вроде ружейного шомпола — перед самым лицом. И лицо было несчастным.
— Ты почему не открывал? А? Ты убежать хотел? — Не передать было минуты.
Понятно стало, что это — участковый с каким-то пристебаем. Низко надвинута была на лоб фуражка, форменная летняя куртка оказалась без погон, что поначалу не воспринималось, при плотности его и видимой силе несколько хищный нос и очень светлые, немигающие глаза, говорившие одно: «Сила, сила же!..»
Пристебай ходил за мною следом и уносил на кухню, вслед за паспортом, трудовое соглашение — документ, подтверждавший, что я причастен к работе над историей старого демидовского завода на Урале. И демидовский завод меня спас, нежданно-негаданно что-то сделал с участковым.
Потом, когда попросил его назваться, — назвался так: Геннадий. Переспросил — и опять получил того же Геннадия. Странность, странность! Но она как бы не замечалась, ее отводила в сторону рука, густо поросшая светлым, точно стеклянным, волосом. Штатский, как и ожидалось, не имел имени вовсе и был тоже из милиции. Но это — потом, потом. А пока...
Двери — все до единой — открывались пинком, затворы и защелки, какие ни были, отлетали «с мясом». Спрашивалось у Севы:
— Куда ведет эта дверь?
И она, открывающаяся вовнутрь, казалось, замирала в ужасе. Сева же обычно не успевал ничего ответить — дверь выпинывалась.
— А эта? — И еще раз — пинком! — в поддающееся, старое, как все в этой квартире.
И беспричинная, как мне представлялось, словно остекленевшая в глазах, злоба.
Надо ли говорить, что квартира, подвергнутая насилию среди бела дня, потеряла лицо? Чудилось: ей стыдно. Ей стыдно и самое себя, и нас, ее беспомощных и временных жителей, и насильников, и никому — слышите! — нет никому прощения!..
И вот — мое трудовое соглашение с историей. Участковый прочитал его, мгновенный проблеск некоей стали — искоса взглядом полоснул. Я пояснил: консультирую дирекцию завода. «Консультант!» Этого было достаточно. Как-то заторопившись, он подал мне документы.
— К вам вопросов больше нет.
— А здесь я у товарища...
Он повторил:
— К вам... — он выделил это, подержал на весу... — вопросов нет. Живите сколько хотите!
Мне разрешалось жить! Щедрость была неслыханной, подразумевалась квартира, жизнь без поругания, но все равно. Оставалось выяснить: за чей счет — жизнь? Тацитова? И, словно нас с участковым кто-то приговорил к этому испытанию, мы посмотрели друг другу в глаза. Что ж, как я и предполагал: ни сочувствия, ни житейского участия... Но мысль, некая мысль, которую я у него тут же и уловил, — из непроизносимых, невычленяемых... Он, пожалуй, удивился, что я не отвел взгляда. Было так: выскользнуло удивление, наподобие радужного мыльного пузыря, и, опасно подрагивая, переливаясь, поплыло себе... Он понял: его больше не боялись.
И совсем перестал дышать пристебай штатский.
Потом парень этот бренчал на «Шидмайере», и звуки дико носились по квартире, он был в затруднении — молодая семья нуждалась в жилплощади; участковый Геннадий содействовал изо всех сил. Да, но как совместить нужду в жилплощади и погром в чужой квартире?
— Не кажется ли вам, что вы многое позволили себе?! Ворвались... ногами выбиваете двери...
Он невразумительно извинялся, двери были реабилитированы, момент покаяния, должно быть, ложного, родом оказывался из Златоуста, почти земляк, жена вчера только приехала оттуда, я должен был, наверное, оценить доверительность — жена!.. Она уже присутствовала здесь, едва ли не физически, но осознавалось совсем другое, наплывая вновь и вновь: страха моего и всеобщего — этого страха больше не было. Еще он, может быть, затаился где-то в старых стенах, бедных тумбочках, стульях, кроватях с топчанами, отпрянув от меня и, как я предполагал, от Севы, остававшегося в пределах кухни, но в эту-то минуту — незабываемую — я был свободен. Свободен!
Но если я был свободен, то Геннадий продолжал служить несвободе. Вот наш дальнейший разговор с ним — все о Севе кухонном. Вроде того, что тот в его глазах ничем не отличается от преступника, живет один. Я: пусть призрачна его жизнь, но он работает, постоянно работает, тут вы не придеретесь, у него постоянная прописка, за квартиру платит, какие к нему претензии, — объясните! Его сломали... Вы же и сломали! Доказательств его выморочности нет никаких, все в норме, все в порядке. Но не в порядке то, что живет один. Один! Его держали в психушке... Вы же его и загнали в психушку. И кому какое дело, что один? Разве это преступление? Так сложилась жизнь. Судьба! Разве так люди живут? Вы видели его комнату? Видел, видел. По-разному люди живут, по-разному! Какой-нибудь дворник на служебной площади... Ну, дворник. Я дворников знаю. Вот здесь жила одна из Хабаровска, аспирантуру заканчивала. Ну да, и работала дворником — я знаком с ней. Каждый год сюда приезжаю... Нет, один — это странно, невозможно представить! Все можно представить. В апреле был пожар, видели сгоревший диван? Видел, видел. И под предлогом тушения пожара его обокрали... Ну, не знаю. И соседи внизу жаловались: зимой он их залил. Но ведь лопнули же трубы отопления на чердаке — размерзлись, и от него не зависело... Человеку надо где-то жить! А Тацитов при чем? Но он не будет возражать, если наш сотрудник здесь поселится? Спросите у него! Спросим...
Читать дальше