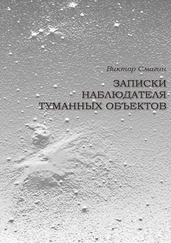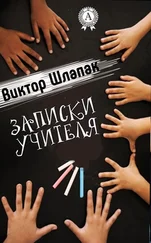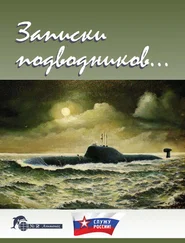Время между тем шло, уже темнело, а предложений, которых я ожидал от каких-то манекеноподобных женщин, все не было — меня почему-то никто ни о чем не спрашивал. А если спрашивал сам, в ответ слышал неопределенное — говорили нехотя, опасливо; но цена всегда оглушала. Пришло понимание происходящего: таким, как я, одиноким, сдавать угол или комнату было невыгодно...
Чего-то все еще ждали — так чудилось: и приезжие с чемоданами, раздутыми портфелями, сумками, среди них видел много смуглых, черноволосых людей кавказского типа; и женщины-манекены — с маленькими изящными косметичками или с хозяйственными сумками — равно все не первой молодости, потертые, с лихим или тусклым, сверлящим взглядом. Ждали последней минуты? Знака особого?
Все же понемногу составлялись группы и распадались, толпа рассеивалась. Те, кому повезло, отправлялись за своей проводницей — сразу ожившей и теперь уже свойской, веселой... А как же я? Тени Лиговки надо мной смеялись.
Тацитов появился, когда я совсем пал духом.
— Вам, наверно, негде переночевать? — полуутвердительно спросил кто-то темный, длинноватая фигура ждала, покачивалась нерешительно.
Кто он? Я сомневался в нем — казался подозрительным. Сумка с пустыми пивными бутылками...
— Не сомневайтесь... — уговаривал человек. — ...Недорого!.. У меня ночевали кандидаты исторических наук!.. Из Москвы приезжали.
Кандидаты! А мне представлялась нора, запустение... Но — кандидаты же!. Я не отрывал от моего уговорщика взгляда. Сдвиг реальности произошел — Лиговка поплыла, покачиваясь; желтеющее светом гостиничное окно оттолкнуло меня.
Теперь думаю: как же я тогда согласился пойти с ним? Соглашаться было необходимо, но — темный человек, сумка, полная бутылок, — подозрения мои не проходили. Объяснение всему этому одно: уловлено было в нем жалкое, надтреснутое... И он, Сева, уловил во мне что-то родственное. Мир слабостей, или, вернее, странностей, соединил нас.
И вот я впервые — в комнате со скошенным потолком. Тусклая лампочка в патроне, укрепленном на стене. Она, конечно, не в силах осветить всей комнаты; тени смотрят на меня из углов, из двух больших окон. Потолок — высота его несоизмерима с обычными потолками — украшен сложным рисунком протечек. Этот рисунок далек от меня, высок. Он молчит, но сообщает беспокойство. Я вдруг вспоминаю: Леонардо. Он любил эту свою странность: разгадывать случайный рисунок — потеки на стене, следы тайного...
Комната почти пуста, в одном из углов — постель на чем-то твердом, деревянном. Она накрыта старым прожженным одеялом. Плоская подушка с наволочкой — я рассмотрю ее недоверчиво — приняла мою разгоряченную голову. Хозяин исчез в огромной запутанной квартире, и его больше не было слышно.
Двери! Еще раз проверить двери. Их — три, две — одна против другой — открываются в смежные, тоже пустые комнаты; третья — в коридор. Надо запереть, насколько возможно. И запираю: защелки, задвижки с натугой, но верно входят в пазы; коридорную — на два оборота ключа.
Теперь свет. Без света почему-то не получалось сна — сон мой не шел... «Куда ты попал, что за пустыня в квартире?» — спрашивал себя. Подразумевалось: чем это может грозить?.. Хозяин квартиры все-таки доверия не внушал. Включил виденную на подоконнике настольную лампу с негнущейся шеей-ногой. Под подушку сунул свой складной, с довольно большим лезвием, нож...
Кто-то ходил в коридоре, останавливался за дверью, надавливал на нее — она подавалась. И я готов был встретить того, кто ломился: в руках у меня оказывался почему-то не нож, а топор... Откуда? Очнувшись, видел потрясенно лампу под колпаком на подоконнике, сегмент света, суровую полутьму, недвижность всего. И было тихо, в этой тишине сердце билось неровно, громко. Снова усталость опрокидывала на ложе, которое оказалось довольно жестким, снова кто-то стоял за дверью в коридоре, и я понимал, что я теперь — кандидат...
Как я скоро убедился, он тоже не выключал света всю ночь, а заодно и днем, — иначе изо всех щелей полезла бы, потекла, как рыжая вода, эта сила. Он не объяснял мне ничего, но я и так догадывался.
Получил от Василискова то самое, обещанное, короткое и злое, письмо, повергшее в недоумение, — всего несколько строчек. Снова переживал, рассказывая. Впрочем, в разные мои приезды, рассказывал по-разному: раньше — даже с глумливым смехом на кухне, с поношениями: «Вот змей!..» Позже, в другие мои наезды — пригорюнясь, еще больше потемнев, согнувшись в три погибели на стуле с сигаретой, приговаривая: «Что он хотел этим сказать — не знаю...» И опять понуро: «Зачем ему это было надо? Такие слова...»
Читать дальше