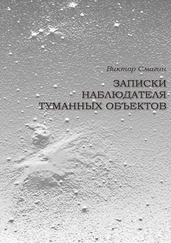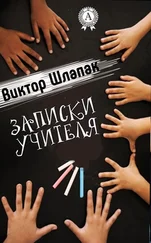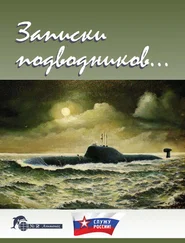— О!.. Значит, человек ввел меня в заблуждение. Извините!
— Одну минуточку! Вы слушаете? — Помолчал, как бы что-то решая, и выдохнул мне в ухо: — Вообще-то Тацитова я знаю... Севу. Всеволода Александровича.
— Знаете? — крикнул я. — Значит, Тацитов спутал номера: хотел дать мне рабочий... — Я развеселился. — Извините!..
И положил трубку. Хотя человек, кажется, проникся... И готов был продолжать разговор. Одну минуту я жалел: а вдруг Сева окажется неуловим? Но шла волна успокаивающая — предчувствие говорило: все обойдется. Ведь прежде обходилось! И письмо опережающее послано — Сева должен получить его. Вот и почтовый ящик Севы в подъезде был пуст — я проверял. Деревянный ящик не запирался и был привычно захватан руками, виднелась грязнотца, а внутри причинил мне боль вечно встречающий мою руку гвоздь...
— Ну, Тацитов, ты все тот же! — сказал ящику.
Разумеется, поднимался на лифте, звонил по-зимнему: тогда, в январе, было условлено: три звонка коротких; на этот раз знакомая квартира выморочно молчала. Дверь — что могла сказать дверь? Я внимательно оглядел ее. В щели белело — записка! Алюминиевой расческой выковырнул клочок бумажки в клетку. Ни слова! Лишь столбцом цифирь: 11, потом 19 и 21. Думал так: адресовано, верно уж, Тацитову, что-то вроде шифра. Ну, не шифр, но посвященный поймет. Записку сунул назад в ту же щель.
На выкрашенной в коричневое стене блестела карандашная надпись. Я придвинулся ближе и прочитал:
«Тацитов! Вам надо погасить задолженность за квартиру...»
Не то. Но мир Севы становился все осязаемей. И лишь пройдя Кузнечный переулок и оказавшись на площади, уразумел: клочок бумажки белел — для меня. Ведь нынче 11-е!.. А другие цифры, пожалуй, значили: вернется между семью и девятью вечера... Но хотя бы одно наводящее слово!
И когда потом продвигался по Владимирскому проспекту, а затем пил кофе на углу в «Вавилоне», то мысленно видел перед собой моего приятеля, вполне таинственную личность, и говорил с ним так: «Всё боимся, всё таимся! Ах, Сева, Сева...» До вечера было еще далеко.
В «Вавилоне» время близилось к обеденному столпотворению, людей с улицы прибывало, их заматывало в двухзальное, на двух уровнях помещение, отделанное панелями из пластика под орех, где они пристраивались к шипящим и воющим итальянским кофеваркам марки «Омниа Фантазиа», и уже знаменитая Алка, с лицом опухшим и постаревшим за последний год, хрипела из-за заезженной машинки, прыскающей паром, своим вавилонским, страшно сорванным голосом нечто невразумительное, хулиганское и горделивое. О кофе «Вавилона»!.. Уже вприглядку знакомый кривобокий парень, тоже постаревший и култыхавший теперь с палкой, косил диким черным глазом на меня, утопая, пропадая в толпе. О кофе! О единственное прибежище!.. Уже там, за прилавком и кофеварками, появлялась и медлила над мелкими противнями с пирожными, над черной икрой, уложенной на половинки вареных яиц, знаменитая восточная красавица, бледная и смуглая одновременно, тихая хозяйка всего, что теперь восходило над столиками вместе с черным блаженным ароматом, что кружило головы, но и отлетало, казалось, навсегда...
Как исчезла, кажется, навсегда гитара в углу на подоконнике мраморном, невидимая за очередью, звучавшая в прошлом августе... Потому что подоконники те, низкие, просторные и годные для чего угодно — хотя бы для принятия кофе и гитарного сладострастия, — нынче заградили надежными высокими решетками. «Время противоречиво», — сказал кто-то от окна. «Это его корневое свойство!» — тотчас кинули ему.
Как исчезнет навсегда то, что приоткрылось вчера в Вологде. Поезд наш стоял. На перроне было темновато, говорили тихо, поглядывали на сумрачное небо. Отдаленно сияло высокое розовое облако. В иссиня-мрачном скоплении облаков оно было как свет в окне. «Это не исчезнет...» — думал я. Мимо нас прошли по перрону двое пьяноватых, они склонялись друг к другу, оба серые — одеждой и обликом. За ними шел кудрявый, в коричневом костюме, парень с чемоданчиком. Что же было? Кудрявый, нагоняя их, все пытался вырвать у одного серую сумку с чем-то отягощающим... «Чего ты к нам привязался?» — возмущались, вроде бы, пьяные, серые... Сумку не отдавали. Так они и скрылись из глаз.
...А в Гостином дворе на лестнице какая-то ярко накрашенная с блестящими от удовольствия глазами, замедленно улыбаясь, вела переговоры с будущим любовником, фатом... Он же, стоя ниже ее, так и тянулся к ней — рыжий и голубоглазый южанин.
Сева открыл мне в угаданное время. В темном тамбуре упал с лязгом тяжелый кованый крюк. Он стоял передо мной — все такой же темнолицый, с длинным унылым носом. Улыбки не было — так, намек. Я искал его руку — поздороваться; а он свою и подать забыл. Я вспомнил: руки не давал, разве что проявишь настойчивость. Но приглашающе кивал, пятился в глубину коридора.
Читать дальше