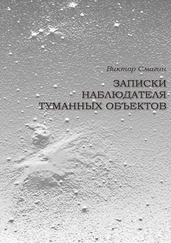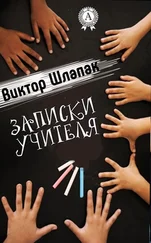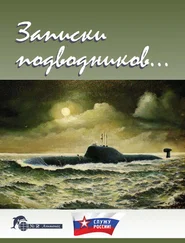По-моему, он тосковал. Писал о незаполненности жизни друзьями. О тропах, дорогах, песке. Писал о музыке внизу у моря, где сейчас вечером, танцы... Об одиночестве катастрофическом, о сумрачном, повелевающем, вечном. Неделю назад эта же музыка приманила его туда, куда зарекся ходить... И что же? Какой-то седоголовый в резком курортном хмелю властвовал на почти пустой площадке, море близко, за световым кругом шумело, ветер раскачивал электрические лампочки. Седой кого-то изображал. Может быть, дирижера, но — нахально, бестрепетно. Музыканты в раковине не обращали на него внимания. А он словно бы вершил вечер — с мертвенно-бледным лицом, — простирал руки, всему давал ход и направление.
«К чему я клоню, Володя? — спрашивал в конце Франц. И отвечал: — Я не клоню ни к чему. Я вспомнил еще раз тебя, и тут подошла эта птица...»
Письмо опоздало, птица подходила не зря, автор, несомненно, очутился в своем далеке — большом промышленном городе. К исходу дня мне необходимо было составить список для дезостанции, проверить, заменили или нет урну у входа в «Галантерею» на углу Вишняковского переулка и Новокузнецкой... Тревожила последнее время Анька пьяненькая — не выходила вовсе или выходила опухшая, с черным лицом, — следовало поговорить с ее мужем, или кто он там ей. В доме с крылатыми конями протекла отремонтированная крыша.
Что, все-таки, в нем привлекало? Разумеется, прежде, когда он мог еще высокопарно и поощряюще называть меня «милорд», когда его втайне раздражало мое беспокойное мельтешение у него в гостях, в соседстве с усовершенствованным проигрывателем, засушенной морской звездой на нитке в окне, с Пастернаком излюбленным на столе; но мог и не подать вида... Когда я в волнении от его игры на скрипке начинал ходить по комнате, а играл он, как сам признавался, скверно; но не это было главным — он увлекался, визгливые, страстные крики ординарного инструмента говорили о нем в такие минуты больше, чем он сам умел сказать, и все кончалось гаерством, вселенским раздрызгом, хлестко лопнувшими струнами — одна за другой. Когда он мог в кухонном застолье кричать кипящей воде, сбегающей через верх: «Погоди?..» Что же в нем привлекало?
А после он безобразно орал на проспекте возле банка; был с Маринкой, меня заметил издали, я шел из публички, — он метнулся, притворно приник к стене, прятался за выступ, поджимался, становился меньше ростом. Маринка по-всегдашнему хихикала, растягивала слова:
— Ну-у, Фра-анц! Оста-авь. Не прижимайся к банку — тебя же заподозрят!..
— Нас нет, нас не видели, — бормотал в стену, скосив карие глаза, — мы Невструеву не попадались...
Отлепился от стены, крутил плешивой головой, с довольно длинными темными волосами сзади на воротнике; как-то не о чем было говорить, я быстро стал пересказывать читанное только что. Точно отчитывался. Речь пошла об известном писателе, упоминалась Одесса, Франц уже знал, читал, — вдруг, глядя в упор на меня, закричал:
— Себялюбец! Чудовище! Он оболгал всех, всех... Предал!..
Он прыгал передо мной, точно собирался драться. Писатель не показался мне таким уж чудовищем — напротив, в книге, как я считал, было много житейской нехудожественной правды; но выходило у нас, кажется, что-то совсем другое. Бешеный посыл этот адресовался мне. Франц топал ногами. Во мне что-то умерло.
— Я не хочу это слушать — неожиданно для самого себя сказал я и пошел прочь, почти побежал.
Он умолк на полуслове с открытым ртом, а потом безумствовал — кричал позади и, когда я оглянулся, вырывался из рук Маринки:
— Дурак! Ты никогда ничего не поймешь... Никогда! И ты всегда был таким?..
И я дергался от его криков, точно жалкая марионетка. Решал: все кончено между нами. Но почему-то, стоит заговорить о моем поколении, я вспоминаю бывшего верного друга Франца.
И я думаю о сыне, его друзьях. Они-то, Ванчик, Костя, знают, чем их поколение отличается от нашего. Может быть, так: знали...
Поехали с ним в центр, Костя должен был ждать в подземном переходе у «Националя», — происходило это в пору, когда сыну до женитьбы оставалось полгода, у матери жилось ему совсем несладко, метался, искал выход. Признался, что однажды, оскорбленный ею и поддерживающим ее Василием, долго стоял ночью на Крымском мосту... Не видел, просвета. Забрезжила мысль о бабушке — она и спасла. Познакомил с Костей — тот оказался толстым, слоноподобным юношей в очках, с бессмысленно-детским выражением на лице. Но и бессмысленность и детскость исчезали, уступали место дерзкой, холодной уверенности, как только заговорили о главном — об отцах и детях... «Что ваше поколение?..» — «А что ваше?» Ванчик кивал одобрительно — не понять мне было: кому или чему. Раскраснелся. Спорил Костя.
Читать дальше