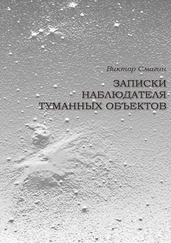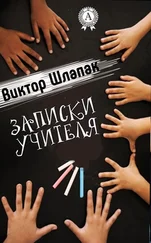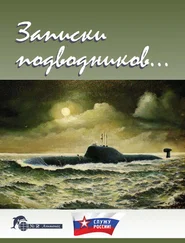Спрашивала небрежно, между прочим:
— Почему, все-таки, ты подал на развод?
Отвечал... но что было отвечать? Терялся под ее взглядом, живым, не помнящим правды прошлого. Невинность в глазах синела, не таяла.
У меня кстати оказался остаток алжирского черного, ему сопутствовали финики.
...За год до Монетчиков и Соснина был очень похожий вечер с Катериной, только — в Губерлинске, февральский, в некое воскресенье. И тот же ее вопрос. Где-то возле самстроевских бараков в темноте на изуродованной и обледеневшей тропе кто-то из нас шатнулся, не удержал равновесия и упал, увлекая за собой другого. Случилось так, что она на меня повалилась, я принял ее на себя.
— Я рад, что мы увиделись, — лежа говорил ей, темной, пахнущей незнакомыми духами. Точно была она сейчас — ночь, звезды неба, радость жизни — вся, вся...
— И я... — Несколько мгновений не пыталась освободиться от моих рук, встать.
Осторожно смеялись. Хоть я зашиб колено, оно болело.
На трамвайной остановке нас встретили тени, скользящие по рельсам, по сияющей черным льдом дороге. Трамвая не было видно. Она предложила:
— Давай пройдем одну остановку!..
Хотелось продлить то, что померещилось, когда упали. Прошли две остановки. Дул холодный ветер.
Когда трамвай стал обгонять нас, побежали; он прошел еще несколько, и вот два вагона света стояли теперь в отдалении... Точно праздник. Катерина все размахивала сумочкой, чтобы водитель заметил, подождал. На бегу успела сказать:
— Только смотри не упади...
Добежали, впрыгнули в вагон, в котором — никого. Безлюдный праздник света подтверждал: удача и с ней новая жизнь — не выдумка, — надо только догнать, успеть вскочить на подножку. Пока не лязгнула, резиново не ударила закрывшаяся дверь.
— У тебя лицо так раскраснелось, — сказала, глядя на меня с любопытством.
— У тебя тоже, — с готовностью откликнулся я. Хотелось сказать ей что-то приятное.
Ехали в гремящем вагоне, перекрикивая грохот. Доехали до Закарпатской, я просил ее помочь с московской пропиской. Вдруг поверил, что ей, приехавшей с ощущением улыбавшейся и уже законной удачи, сумевшей своего добиться, уже москвичке, все под силу. Как-то фигурировал во всем этом Ванчик. Строили планы: что можно сделать.
— Может быть, год поработаешь на строительстве? А потом мы тебя вытащим, обязательно!
И тогда-то спросила:
— Все-таки, почему ты подал на развод?..
Хотела видеть Ванчика, договорились встретиться в среду. И встретились — гуляли, было новое чувство возвращения к прежнему, подобие семьи, потом оказались в кафе «Пингвин», где Ванчик истреблял мороженое, а мы — черный кофе; бывшая жена моя говорила с увлечением о том, что возможна поездка в Париж, глаза у нее сияли; прощаясь поцеловались...
Алжирское черное помогло: я сидел у ее ног на детском стульчике, забыв обо всем на свете, забыв себя. Тянуло к ней, хотелось обнять ее ноги. Кажется, она это чувствовала — менялось выражение лица, оно становилось сторожким, непроницаемым. Потом держал ее руки в своих. Сделалось необыкновенно тихо, слышал свое сердце. Не помню нашего с ней дальнейшего разговора, а помню одно: тут же и пожалел, что не обнял... Потому что это был у нас последний час. И спустя много времени жалел.
Назавтра она сама скажет с нечаянным простодушием:
— Думала, ты не удержишься, захочешь меня взять... А я проявила выдержку. Если открыться мужу — ни за что не поверит!
Но это будет уже на Кропоткинской, днем попросила проводить. Она теперь была дневной женщиной, открытой, в ней играло внешнее, неуверенность ее прошла, тревога отлетела. А та — темная, непонятная, перед которой сидел и которую желал, как, наверное, никогда в жизни, — осталась в Монетчиках.
Нашел на почте Францево письмо «до востребования». Франц? Имя вспыхнуло перед глазами. Но зал Главпочтамта ничего не желал знать о моем прошлом, в нем веяло спокойным холодом настоящего. И еще он напоминал внутренность гигантской шкатулки с прозрачным верхом, я чувствовал в этой шкатулке свою незначительность, потерянность. Письмо сюда упало, оно лежало, старилось. Я сказал себе: да, это было! И было так много всего, что — объединяло, а затем, как водится, разъединяло, расталкивало по углам, семьям, обидам... А в эту пору писем от него не ждал, не помнил; дело об исчезнувших туфлях затухало — Соснин после моего объяснения поговорил с кем надо в милиции, Лопухова отозвала заявление, написанное по настоянию любимого жильца Юры... Но ведь это Франц, Франц! В письме упоминалось невструевское «атлетическое сердце», способное все вынести, — даже его приезд: хотел заехать из Ялты.
Читать дальше