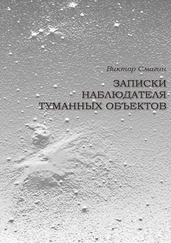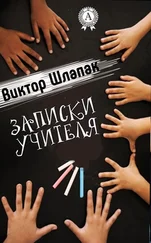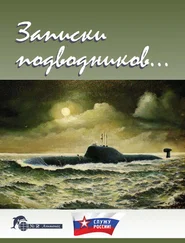Вот надавливаю с усилием на плечо лопаты — она зыбко погружается, выворачиваю отвал, если сырой, то уж тяжкий, тяжкий, — разбиваю ком. Извивается червяк, есть в нем что-то старческое и, в то же время, молодое, упругое; блеснула черным панцирем улитка; звякнул цветной камушек, — все готово со мной заговорить. И сам мысленно говорю со всяким... Еще в восьмом классе на каникулах прибежал Жэка Покровский, забыли про мяч с подклеенной камерой, нанялись к какому-то прохиндею прорабу, дал он кирки, пару криво насаженных лопат, сразу сбили руки до крови, вырыли, заплатил жалкие копейки, обещал рубли. Шли обманутые, солнце палило по-черному, злые слезы кипели, — чудаки!.. В Свердловской области зимой в сосновом лесу рвали мертвый грунт клиньями, намахавшись кувалдами, сбрасывали мокрые гимнастерки, отогревали кострами; потом разгребали кострище — под ним глина была как створоженная, молочно парила, дышала сытно и пресно. Черные пермские боги, глядящие из ельников, последнее лето перед демобилизацией, аккордная земляная работа — сколько ее было! И после. В Карелии на строительстве в первый раз послали вдвоем с Композитором рыть могилу для попавшей под поезд рабочей. Местная была, многодетная. Песчаная возвышенность среди пространных болот, подволоченных низин, — какой песок чистый, белый, царственный! — он осыпа́лся: стенки плохо держали, получилась яма с подкопом... На поминках сидели: вдовец с кучей детей мал мала меньше, работавшие с покойной отделочники, мы с Композитором. Откуда у него было это прозвище? О музыке, одному ему слышимой, начинал говорить он иногда, о музыке, равной музыке сфер...
Утром, в самую рань, когда шел на троллейбусную остановку, видел: пожилая, жалкая от заброшенности, нелюбви женщина несет афишу — в ней косо падающими буквами написано: «Закон любви». Вернее, она тащила афишу волоком, вела ее, поставив на ребро, скребла низом по асфальту. Вот женщина и «Закон любви» пересекают дорогу, не обращая внимания на приближающийся желтый автобус...
Говорят походя о законе подлости, но кто скажет вразумительно о законе любви? Что в нем, в этом законе? И о ком это пелось, поется: земля его любила?
Как сухо и грозно щелкнуло у меня под ногами, как зачастили длинные выскакивающие искры, какая пугающая стрельба поднялась в траншее!.. За несколько секунд перед этим внезапная боль в сердце, так что я принужден был замереть с отбойным молотком на весу. Предчувствие, опережающее предчувствие поразило, так я сейчас считаю. И спасло оно.
Сказал о сердце Геннадию Николаевичу, еще не ведая... Он чуть скривил лицо — недоумевающе. И тут же оно разгладилось: ему-то что? Добротное ратиновое пальто, беретка среднеевропейская, взгляд никакой. И потом только я еле ткнул пикой молотка в тот, как показалось мне, обломок бетонной плиты под ногами — в уже раздолбленное крошево. Ткнул и тут же вымотнул мой железный снаряд вверх и в сторону, вылетел сам — не знаю как!
Кабель — вот он! И кабель этот пробит!
Шесть киловольт — верная смерть, миновала чудом. Миновала вызвавшего ее, испуганного и не знающего, куда девать кривую усмешку заледенелую, руки, ноги... Вина соединилась с радостью (жив!), ошеломление со стыдом, — раздвоившимся сознанием я видел себя со стороны. О н а пока не уходила, скалила зубы, все было полно ее присутствием; но уже не в упор глядела — человек пятился, отступал от невысокой земляной насыпи, оглядывался по сторонам... Он сердцем теперь знал: с ней быть — невозможно...
Тогда и промелькнул опять Марик — я увидел его боковым зрением: гений Центрального рынка, давным-давно посерьезневший, никакой лошадиной улыбки. Как будто знал, к о г д а мелькнуть!
«А ты знаешь, какой дрянью накормили меня в институте?» — его слова кому-то — когда-то, в золотой пыли... На пороге взрослой жизни. Где ты, жизнь? Где ты, пыль золотая?
...— Протрубачила зря да денег сколько в них впучила! — догонял летевшего Марика несомненно базарный голос. А уж он, отмахнувшись, мелькал среди дощатых уличных, с горбатыми навесами рядов, где скопилась вся шелуха дня, весь его интерес, и на прилавках сыпучие горы прожаренных черных и вовсе не жаренных серых крупных семечек с вечным над ними вопросом: «Почем семя?», с тьмою голубей и воробьев под ногами, то и дело взлетавших, отчего их крылья, легко просвеченные солнцем, поднимали солнечный ветер. И сухомесовская картошка в мешках и ведрах, и завал арбузов со скульптурно спокойными молодыми узбеками среди завала, и россыпь привозных яблок, спорящих с местными ползучими сортами, и невесть откуда прилетевший в ободранных чемоданах виноград.
Читать дальше