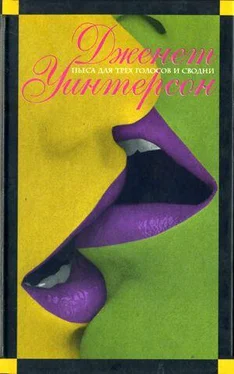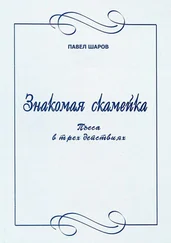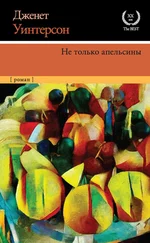Погода меняет пустошь. При свежем солнце и легком ветерке красная трава колышется, как море Моисея; травяные волны расходятся передо мной и снова смыкаются гладкими гребнями. В такие дни вздымается сама твердь холмов. Склоняются деревья, склоняется земля под ними, в движенье – всё, в покое – только я. Кролик убегает в лес.
Не по меланхоличности ль своей натуры, однако, я больше люблю пустоши раскисшие, с которых весь цвет смыло аспидным дождем сквозь прохудившуюся крышу неба по грифельной доске земли? В такие дни дома в долине испаряются, остается лишь доблестный дымовой сигнал, восстающий над туманом странным столпом. Овцы не обращают на дождь внимания, а он обесцвечивает холмы. Смытая зелень выщелачивается в ручьи, и те бегут, не бледные, а пенистые и зловещие, по черным блестящим камням. Там, где отражению на выручку приходят деревья, вода изводится от зеленоглазой зависти и скользит по камням, как змея. Я часто ходил извилистым путем ручья, пока он не бросался с обрыва – пожизненное самоубийство и возрождение в глубоком пруду на дне.
Водопад – искушение. Живая, искрящаяся сила, что ни секунды не медлит, а просто невозможно прыгает вниз, головокружительно рушится и строит хрустальный мост для моего тела. Не раз и не два снимал я одежду и стоял в туче брызг на краю, кожа исколота капельками возбуждения, волосы мокры насквозь. Внутри все ныло от желания рискнуть в этих радужных складках и соскользнуть в ожидание воды.
Но почему же мои ноги с цепкой осторожностью впивались в берег? Я не мог прыгнуть, хотя каждый мускул напрягся к прыжку. Я не хотел умирать, мне хотелось познать эту силу, странный электрический поток и оглушительный грохот в ушах.
Я страдаю гидремией. Возможно, поэтому вода тянет меня, хотя воду следовало бы тянуть мне. Когда мы жили в Риме, у нас в саду был колодец, и я хотел спуститься в него и сменить имя на Анджелотти. Даже в раннем детстве героика меня не интересовала, но мать играла Пуччини и не разрешала мне быть Флорией Тоской. Я научился помалкивать и прятаться в колодце. Я не герой и не гожусь даже в шахматные рыцари. Попытка стать священником была сродни фианкетто, не так ли? Умный ход плохого игрока.
Но теперь Гендель – врач. Врачи спасают жизнь, врачи – фигуры важные. Мой старший брат – судья. Я живу за счет болезни, он – за счет преступления, однако мы очень уважаемые люди. Склонитесь пред Знаком Пиявки. Ха-ха. Знаете, а у меня такой есть – деревянная доска с жизнерадостной пиявкой. Я купил ее в аптеке восемнадцатого века, вместе со стеклянными трубками, серебряными пузырьками, баночками с вытисненными буквами и прочими прибамбасами медицинского очковтирательства. Распродажа Сотби.
Я не хочу говорить, что лишился иллюзий, но это так и есть.
Что было моими иллюзиями?
Прогресс. Любовь. Человеческая Натура.
Не рассмотреть ли нам эти иллюзии одну за другой прямо сейчас, в душном вагоне мертвого поезда, вытесненного бетонным морем на запасной путь?
Прогресс: постоянное приближение к чему-то лучшему или высшему по развитию. Улучшается ли род людской, развивается ли по сравнению с тем, каким был раньше? История знала множество выдающихся мужчин и женщин, а поскольку людей сейчас несоизмеримо больше, чем прежде, можно ожидать, по крайней мере, пропорционального роста величия и доброты. Но где они? В политике их нет. В общественной жизни тоже. У Церкви, какое бы клеймо на ней ни стояло, тоже нет выдающихся духовных лидеров. Готов признать: хороших ученых у нас стало больше, если считать хорошим ученым опытного специалиста в узкой области, делающего больше открытий, чем его покойные коллеги. Но если мы спросим, нравственнее ли они, острее ли сознают свою ответственность перед обществом, дисциплинированнее, значимее ли для всеобщего счастья, – обнаружится, что наши ученые не адекватны тому веку, который, по их утверждению, они же и создали. Публике подсовывают какие-то безделушки, а реальная наука творится за закрытой дверью, в заповеднике фармацевтических компаний и военщины. Оружием будущего станет генетический контроль. В шеренги Армии Нового Типа встанут врачи. Не правда ли, вы мне поверите, если я скажу, что вашему нерожденному ребенку жить будет лучше только с моей помощью? Белый халат заменит хаки так же, как пушка уступит место шприцу.
Я люблю читать Джорджа Бернарда Шоу, но не потому, что он надеялся читаться как усовершенствованный Шекспир: этот провидец искренне верил, что социализм может развить низменнейший человеческий инстинкт – жадность. Есть ли у нее такой ген, который можно выявить и удалить? Если да, то денег на такие исследования вряд ли дадут – гораздо выгоднее истреблять рыжих или гомосексуалистов. Какая разница? В пятнадцатом веке было хорошо известно: рыжие волосы – признак любовницы Дьявола. Если бы наши предки обладали современной технологией, женщина, сидящая сейчас напротив, скорее всего, была бы брюнеткой. Рыжие бы исчезли, и мы оправдали бы их потерю, сказав: «Ну что ж, зато благодаря нам на свете не осталось ведьм». Генная инженерия приписала бы себе обычный общественный сдвиг. Ведьмы и дьяволы нам больше не угрожают. Мы ничего не имеем против соседки – безобидной дамы, что выращивает лекарственные травы, против ее перегонного куба для отваров, черного кота и рыжих волос. Некогда мы привязали бы ее к столбу и сожгли, а нынче для нас оскорбительны лишь педики.
Читать дальше