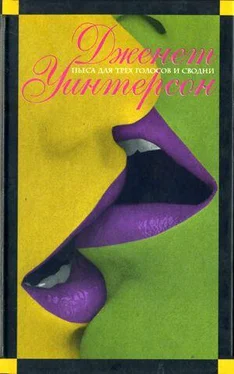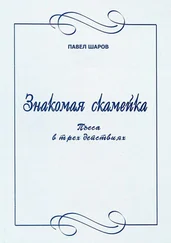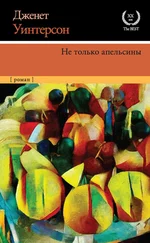Если я сгорю в своей железной гробнице, какое тебе дело? Можно быть проклятым еще при жизни. Череда удачных проклятий скует то, что еще осталось от души, и превратит ее будущее в те же толстые чугунные чушки, из которых состоит ее прошлое. Маленькие вероломства, пагубная ложь, моральная трусость, преднамеренное уныние, пренебрежение красотой, презрение к любви – все они по-своему разрушают то, что было создано нерушимым: душу. Не модно? Верно. Это не было модно еще среди эпикурейцев, чей главный философ скончался в 270 г. до Р. X. Но душа входит в моду и выходит из нее, бессмертная она или нет, но ее можно проклясть. Разве в жизни этой не хватает ада?
Тебе хватит ада, Гендель, отвергший в себе любовь ради долга, который презирал. Но знаешь, что хуже всего? Он приговорил тебя к вечному отрочеству. К утраченной любви, по которой льются вечные слезы, полная лохань жалости и ненависти к себе. Единственный подлинный шанс жизни упущен. Слишком распространенное заблуждение, а я не романтик, ничуть, я презираю в себе сентиментальность. Как и во всей человеческой природе. Заключи я ее в свои объятия со всей пылкостью, которой она заслуживала, – что бы произошло? Какое-то время мы были бы любовниками, а потом разошлись? Поженились бы? Остались друзьями? Я бы не стал священником, но поскольку я все равно перестал им быть, хоть и по другим причинам, это едва ли имеет значение. Все эти догадки едва ли имеют значение: какой бы выбор я ни сделал впоследствии, передо мной все равно бы предстали красота и ужас в равных долях. Красота того, что она мне явила, и ужас того, что я больше не мог скрывать. Я застегивался на все пуговицы и задраивал все люки перед обоими. Я сохранил свои тихие предрассудки и жалкие удовольствия, свою сомнительную веру и стыдливые уколы страсти. Хватило бы религиозного экстаза, если б я умел в него впадать; артистическое исступление меня тоже удовлетворило бы, и я почти достиг и того и другого, но остановился на краю. Я смотрю в пылающую печь и знаю, что она реальна, но могу зачерпнуть из нее лишь несколько остывающих угольков.
То был не единственный раз, когда я предпочел криводушный ответ искреннему. Она верно прочла момент, а я запинался, щурясь в подержанный учебник. Я любил ее и лгал.
Что еще сказать про тот безмолвный день, когда я отвернулся от ее лица к темной бездне эгоизма? Я бежал от красоты, теперь красота бежит меня. Как провожу я свои дни? Не с живым телом, но у мраморной плиты, в черном искусстве бритвы и скальпеля и расчленяя то, что люблю.
Слишком горько? Возможно, однако я понял, что горька сама человеческая природа, в ней переплетаются корни полыни и желчи, в ней захоронена смерть при жизни, которая все равно боится могилы. Убив часть себя, я боюсь ее меньше, чем тот, кто убивает нечаянной рукой, совершает ежедневное самоубийство, что предшествует всякому преступлению. Любовь к деньгам. Страх смерти. Спаренный двигатель человеческой расы. Глупо искать крылья, да? И даже негуманно? Но я мечтаю о полете, не чтобы уподобиться ангелам, но чтобы воспарить над ничтожностью всего. Ничтожностью самого себя. Против ежедневной смерти – иконография крыльев.
– Гендель, она умирает. – Смерть моей матери, ее хрупкое драчливое тело стало зимней шелухой.
Мы собрались вокруг ее кровати, отец стоял справа, я слева, ее сестра в ногах, мой брат ерзал на выцветшем стуле. Большие часы отмеривали секунды с монотонностью метронома. Сиделка поглядывала на свои часики. Мертвые не своевременны. Мать просыпалась в 7, завтракала в 9, писала письма до ленча, дремала до 2.30, забирала меня в 3, сдавала в 4, отдавала распоряжения прислуге до 5, читала, принимала ванну, одевалась к ужину, съедала его и засыпала к 11 – и все равно прожила на три дня дольше, чем предсказал врач. Все эти три дня родные провели вот так вокруг нее, ели по очереди, спали на раскладушках, не разговаривали, а виновато поглядывали друг на друга, словно подавали тайный сигнал: «Неужели это время никогда не кончится?»
Ее сознание угасло, осталось только животное – животное, любой ценой цеплявшееся за жизнь. Из всех нас она предпочла бы умереть с достоинством, сдержанно принять неизбежное. Мы и представить не могли, что тело, которое мы укротили, вдруг так взбесится. Бе руки рвали простыни, лицо кривилось от боли, она металась из стороны в сторону, а системы отказывали одна за другой, и органы переставали повиноваться командам. Ее переполняли жидкости, неслитые и несливаемые. Мы вытащили из нее все трубки – они доставляли ей столько же боли, сколько должны были утолять. Мы привезли ее домой, подальше от подкладных уток из нержавеющей стали и роликовых тележек, дребезжащих пузырьками с лекарствами. Подальше от Палаты для Умирающих и ее бесчувственных банальностей. Смерть – любимое слезливое развлечение, и живые теперь играют свои роли из мыльных опер. Это верно: смерть – такая ситуация, в которой нам отчаянно необходим сценарий. Большинство оглушено чувствами, о которых нас не предупредили. Но уж лучше ходить оглушенными, нежели гасить чувства хлороформом пошлых банальностей и действовать наверняка сентиментальностью. В Палате для Умирающих кричать не разрешается – если, конечно, она не оборудована в телестудии. Те, кто вот-вот потеряет своих близких, должны сидеть sotto voce [29] Вполголоса (um.).
y кровати и следить за американским гаером, изображающим скорбь. Если им повезет, покажут комедию, и все смогут изобразить смех. Телевизор обязателен, вы можете только задернуть шторку у своей кровати или заплатить за отдельную палату.
Читать дальше