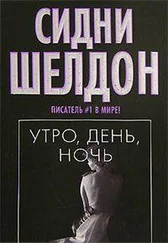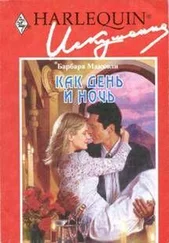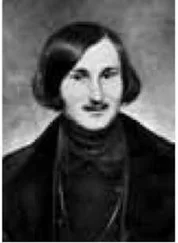Ты, кажется, ждала меня в берлоге
и горячо мечтала о скитальце.
Загривок холодит ошейник строгий,
мерцает драгоценный пульс на пальце.
Я не пойму — собака, или кошка,
иль здесь клубятся неземные змеи?
Меня ты нежно подожди немножко,
пока снимаю все твои камеи.
Была нелёгкой дальняя прогулка,
я долго брёл по кромке океана.
Чьё сердце тут колотится так гулко,
что тишина становится, как рана?
И снова я прикладываю к уху
стальной курок дыхательного нерва.
И мне даёт — ту и другую руку —
поцеловать Милосская Венера.
Солнце рвётся к нам из райской чащи,
Оставляя на колючках лет
Нестерпимый, яростный, сладчайший,
Изливающий Себя нетварный свет.
Это чудо вовсе не для сытых,
Зря толпится, тень роняя, плоть.
Как бы ни был близок преизбыток,
Не хватает мне Тебя, Господь!
Грех, господа, и разведён, и вдов,
И — навсегда — одновременно холост:
Святоотеческий чудной порядок слов —
Тому залог, как и чудесный голос.
И как моя бы ни металась кровь,
На Всенощной, вращая ворот суток,
Они соединяют вместе вновь
Эмоции и Твой, Господь, рассудок!
Под ладонью даль — как на ладони.
Прямо по дорожке световой
можно перейти простор бездонный,
справиться с ретивой тетивой.
То прибой — что уличная драка,
то — трясёт повинной головой.
Отряхнув стопы земного праха,
с красного мы входим в голубой,
а потом из голубого — в белый,
где цветёт сирень без облаков
и кусочком солнечного мела
разграфлён фиалковый альков.
Есть ли выход за пределы света —
на причал начальной черноты?
Ангел по верёвочной — из ветра —
носит в море новые цветы.
Вам, кто, лёгок на помине
и тяжёлый на подъём,
сохранил в хорошей мине
запрещённый стол и дом,
кто на свежем минном поле
рвёт опасные цветы,
кто учился в нашей школе
нелегальной красоты!
Может, чудо жизнь удочерило.
Либо сам Господь усыновил?
Никакие не нужны перила
На святых ступенях синевы!
Там все те, кто, вдруг покинув стаю,
В новом тренируется строю.
Некоторых ангелов я знаю
И легко до пяток достаю.
Только нет свободной там ступени.
Очередь — живая — до небес!
Души, поспевая на Успенье,
Постепенно сбрасывают вес.
В лесах распаренной нирваны —
Аркады стрельчатой ирги.
Лечу, но словно оловянный, —
На этот свет не с той ноги.
А лес — совсем не деревянный —
Звук декламирует живой,
И хвойные лесные ванны
Смывают ропот вековой.
Душа, как в сауне томится,
И дух смолистый — как припой,
А на серебряных ресницах
По лесу бродит дождь грибной.
Стреляют шишки по колёсам,
Играют дуры в дурака,
И достаются важным осам
Останки пира пикника.
Но берег спаривает пары
Не только свадебных стрекоз,
И открываются амбары
Недекларированных поз.
И Бог расстроен на два тома,
Семь пятниц и девятый вал.
Когда я вылетел из дома,
Я словно дома побывал.
Но стоит Богу оступиться
Среди потерянных подков,
Гром вяжет дождь на грозных спицах
И собирает грибников.
Спасибо, лес, спасибо, поле,
Что дали Богу здесь простор
И столько воздуха, и воли,
И в рощу спрятали топор.
Не поминайте, ветры, лиха,
Сушите слёзы Ци Бай Ши.
Не отлипает облепиха.
Хоть вирши заново пиши!
В Помпеях все сгорели заживо
и не оставили кормил…
Как долго я тебя приваживал,
глазами зеркало кормил.
Поил слезой, делился стужею
и пресмыкался, словно уж.
Шуршало зеркало бездушное
переселениями душ.
Мутнело, как чело оракула,
сдвигая параллелограмм.
Вдруг мне — в каракуле каракулей —
пришло письмо из амальгам.
Тем пеплом по краям измурзано
и — видишь — вскрыто тут и там…
И в нём всегда играет музыка,
что так приваживает спам.
Когда, возвращаясь с обочин,
Душа озаряла жильё,
Как шла тебе чистая почта —
Любви лицевое шитьё.
Я был и сестрою, и братом;
И мачо, и друг, и жиган.
Ложились и думали рядом,
И образ бельё обжигал.
Зачем я поймал полнолунье
На старом своём Маяке?
Юродивый и полоумный,
Сварился в твоём молоке
И вышел и сильным, и новым
И, дал мне Господь, молодым!
И стал разведённым и вдовым,
Женатым и холостым.
Ты — нет, чтоб сидеть одесную
Тихоней тишайших тихонь —
Открыла заслонку печную
И бросила песни в огонь.
Читать дальше

![Анатолий Приставкин - Первый день – последний день творенья [сборник]](/books/34293/anatolij-pristavkin-pervyj-den-poslednij-den-t-thumb.webp)