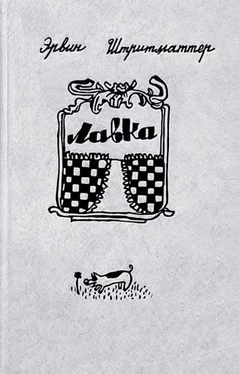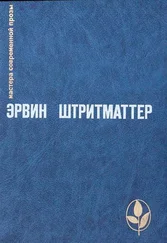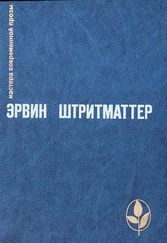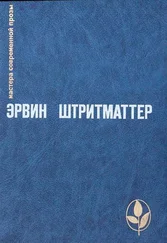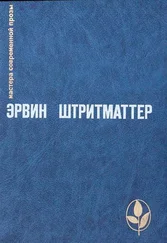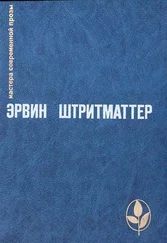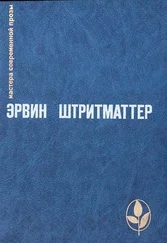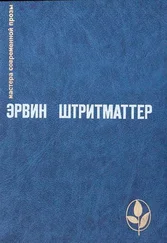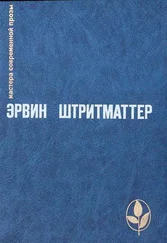Тем временем сестра Августа продолжает обучение деревенских женщин правильному уходу за грудными младенцами, и делает она это при помощи голой целлулоидной куклы с младенца величиной, пупса, как говорят у нас в степи. Если приглядеться к тому, как сестра Августа пестует этого голыша, который, между прочим, не дрыгается, не мочит пеленки и не ревет, наши матери, выхаживая своих малышей, совершали до сих пор ошибку за ошибкой. И мы, по сути дела, должны были совершенно захиреть, чтоб не сказать хуже. Разве наши матери, вынимая нас из колыбели, поддерживали нашу голову левой рукой? Разве их правая ладонь представляла собой плоскую опору для нашей поясницы и зада?
Не лучше обстоит и с нашим питанием. По сути дела, мы бы должны все как один быть золотушные и кривоногие, поскольку вместо того, чтобы вводить в свой организм каротин, мы выдергивали морковку из грядки и пожирали ее на месте прямо с песком. Мы поедали листья щавеля на обочине дороги — нет чтобы глотать витамин «C».
Черная сестра в шнурованных ботинках и с черным портфелем никогда в жизни не имела дела с мужчиной, но тем не менее она просвещает деревенских женщин относительно гигиены супружеских отношений. Она не родила ни одного ребенка, ни одного не пеленала, но тем не менее преподает многодетным матерям основы теории, которые изучала на примере куклы-голыша. Она наставляет женщин в вопросах семейной гармонии, а сама никогда не имела семьи. Она оставляет нас, детей, подглядывать под окном, а сама общается с нами через посредство наших матерей. Она боится настоящей жизни. Для меня она становится своего рода символом, и когда я читаю сегодня рассуждения какого-нибудь политизирующего литературоведа, я невольно вспоминаю сестру Августу, которая таскала в своем большом портфеле жизнь в форме целлулоидной куклы-голыша.
И представьте себе, исход черной сестры из Босдома совершается отнюдь не под аккомпанемент восторженных похвал со стороны деревенских женщин, ибо, когда наш теоретик в черном рискнул хоть самую малость заняться практикой, это добром не кончилось: с металлическим гребнем специально на вшей она приходит к нам в школу, не предупредив о своем визите ни Румпоша, ни наших родителей, и проверяет у нас чистоту ушей, волос и шеи. Румпош объявляет перемену и покидает классную комнату. У большинства детей черная сестра обнаруживает грязь на коже — у девочек, равно как и у мальчиков, вшей она тоже обнаруживает, у девочек, равно как и у мальчиков, а у одного так и вовсе кузнечика, которого и помечает в своих статистических выкладках как уникальное явление. Ей невдомек, что Рихард Наконцев на перемене осваивал стойку на голове среди зеленой лужайки за песчаной ямой и что кузнечики не относятся к разряду паразитов.
Это обследование вызывает гнев у деревенских женщин: уж коли у ихних детей грязная голова либо водятся вши, так они сами с коих пор это знают, безо всякой там пришлой плоскостопой халды.
Ни у моей сестры, ни у меня в голове ничего не обнаружили, и все-таки моя мать не удерживается от восклицания:
— Какая коварства! Уж мне-то она могла загодя намекнуть, даром, что ли, я ходила у ней в ассестенках!
Так бесславно она покинула нас, эта ходячая теория, и трудно было сказать, взошли ли хоть какие-то семена из посеянных ею, если, конечно, не считать песенок, которые мы подобрали под окнам; вот песенки эти живы в нас и по сей день: Спи, принцесса, сотню лет, сотню лет, сотню лет…
По селу идет молва, она все сгущается и сгущается, а потом настает вечер, когда мой отец приходит домой со спевки и говорит:
— Сущая правда, скоро мы закинем каросиновые лампы на помойку, мы станем иликтрические!
Несколько недель спустя по селу шагает какой-то шустрый человек. Ноги у человека упрятаны в обмотки, сопровождают его общинный староста Коллатч и каретник Шеставича. Через определенное расстояние человек указывает место на обочине, и Шеставича вбивает туда колышек. Где стоит такой колышек, позднее вроют столб, место отдыха для проводов, по которым ток прибежит в дома и в лампы.
За Гродком, на другом краю округа, расположена фабрика, которая делает ток, — электростанция Троаттендорф. Мы говорим просто Троаттендорф, без «электростанция». В Троаттендорф ударила молния! — Всякому ясно, что речь идет про электростанцию.
— Троаттендорф отдавал вешь швет в Берлин, а наш оштавил сидеть при карошине, — говорит Шеставича. Новые, непривычные речи в устах Шеставичи.
Читать дальше