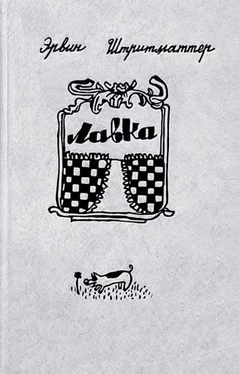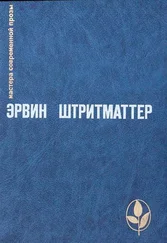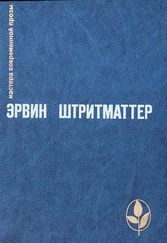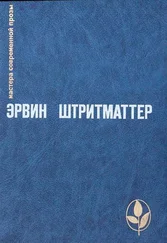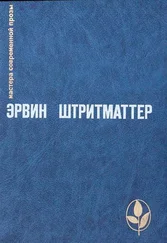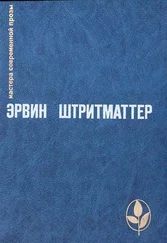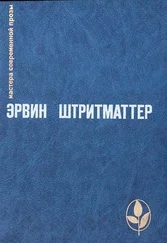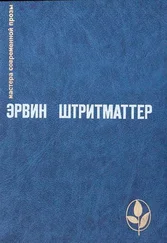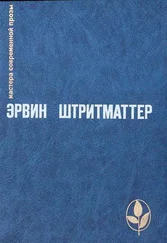Гюнтеру Каспару посвящается

В Серокамнице, откуда мы переехали, все было по-другому, и с искусственным медом тоже было по-другому: там каждой семье раз в неделю выдавали шматок меда. Мне было пять лет, я сам ходил в лавку за нашей лепехой и так подставлял большой палец, что, когда лавочница лопаткой шлепала на тарелку эту серо-желтую массу, немножко меда прилипало к моему пальцу. Мне разрешалось облизывать перемазанный палец, но запрещалось по дороге снова окунать его в мед, чтобы полакомиться. Боженька сразу увидит грешника, боженька все видит, внушала моя мать; вот и получалось, что и грех, и добродетель зависят от одного движения моего большого пальца.
Я попробовал испытать бога с помощью указательного пальца. Я засунул палец в мед, вытащил, облизал и прислушался. Все было спокойно. Господь, видно, только посмеивался в усы надо мной, маленьким дурачком, но после обеда на Серокамниц обрушилась большая гроза, и все страдали и обмирали от страха только потому, что я запустил в медовую лепеху указательный палец.
Теперь мы переехали в Босдом, еще и часу не прошло, как мы здесь, а все уже по-другому: одного мальчика мать называет Владичек. Мне это имя не нравится. В Серокамнице таких имен ни у кого не было.
На дворе пекарни Владичек кидает в двери сарая бумажные фунтики; фунтики лопаются, из них брызжет мед, кляксы искусственного меда расползаются по стене и текут вниз по доскам.
— Прямое попадание! — орет Владичек.
Интересно, что скажет на это бог?
Моя бабушка, прозванная за ее полутораметровый рост бабусенькой-полторусенькой, похожа на карлицу из сказки. У нее глубоко сидящие глазки, красные щечки, она добрая, она хитрая и… чего уж тут долго толковать, раз у нее глубоко сидящие глаза. Когда что-то идет не так, как положено, бабусенька спешит на подмогу. Сейчас она выходит во двор и говорит мальчику по имени Владичек:
— Ты чего бросаешь мед?
— Хочу и бросаю! — отвечает Владичек.
— Ты расточаешь божий дар! — говорит бабусенька.
— Это наш мед, — отвечает Владичек, не переставая бросать.
— Детки, — говорит хитрая бабусенька, — ступайте за вороты, они сейчас будут мебеля сгружать. Как бы не разбилось большое зеркало.
Мы идем за ворота. Любопытный Владичек идет следом. Мы еще мало прожили на свете. Мы хотим знать, откуда берутся вещи и куда они деваются. Мы еще не знаем, что в осколках и каплях воды отражается целый мир. Зеркало разбить — беды не избыть, сказано в поговорке.
Мебельный фургон — это, оказывается, такой дом на колесах, крыша у него выгнутая, спереди, высоко над лошадиными крупами — сиденье на четверых. Возчики все по виду деревенские, на них на всех кожаные фартуки, они коренастые, дюжие и кривоногие, тяжести, которые они переносят, придавили их к земле, все они — сорбы и переехали в город искать доли.
У фургона громадные колеса. Их металлические ободья стерлись о камни проселочных дорог до серебряного блеска, но и камням, верно, тоже досталось, вот только глаза у нас не настолько зоркие, чтобы разглядеть эти следы.
В фургон запряжены шесть лошадей бельгийской породы, они запряжены в два ряда, у них раздвоенные крупы. Лосиная вошь пробирается сквозь волосы на груди у буро-чалого жеребца. Может, ей так же страшно, как и мне, когда я иду по темному оврагу?
От лошадиных боков поднимается пар. Пар будто перемешан с иголками, и эти иголки колются у меня в носу. Аммиак, объясняет мать. Но что толку? Все равно колются.
Постромки свободно лежат на лошадиных спинах, тихо позванивают, когда лошади вздыхают, и звякают громко, когда лошади встряхиваются. Лошадиные головы по самые глаза упрятаны в торбы, лошади шумно фыркают в сечку, чтобы поскорей добраться до овса. Возчики, не мешкая, плескают в торбы водой, и теперь сечку уже не отделить от овса. Бескрайние степи — пастбища былых времен — уместились в пределах одной торбы.
— Это ты сегодня так пишешь, — говорит мне мой сын, — а тогда ты об этом думал?
Я и тогда об этом думал, но никому об этом не говорил, я боялся, что меня поднимут на смех.
Читать дальше