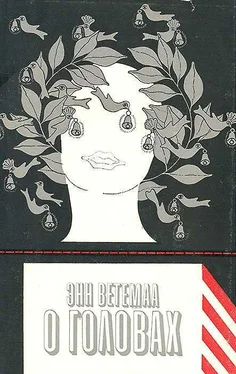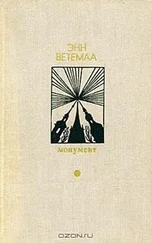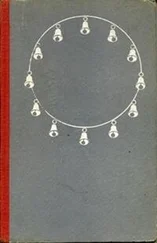Агнес написала, что эту сорочку высушат и отдадут ей насовсем — одна пожилая акушерка обещала устроить. Оболочка эта, когда высохнет, становится тонкой и плотной, как пергамент, и, считается, приносит новорожденному счастье. Агнес намекнула: мол, что может быть б о льшим счастьем для малыша, чем здоровый отец и тому подобное. Это прозвучало почти так, что я должен быть парню благодарен.
Мне грустно, что я не умею радоваться. Я терзаю себя тем, что в такой момент почти ничего не чувствую. Все это немного пугает меня, ко не более. Вот оттого, что «не более», от этого мне и грустно. И еще потому, что я вспомнил, как жеребится лошадь.
Все отцы, как правило, немного под хмельком, когда идут встречать ребенка; с собой у них цветы и блестящие одеяла, голубые или розовые. Перед больницей ждет машина, и иногда таксист привязывает к антенне белую шелковую ленточку.
Я сижу на ящике из-под гвоздей; вот-вот взвизгнет на повороте трамвай.
Опять я пробираюсь среди крапивы, и опять она кажется мне прохладной. В больнице зажжены огни. Я знаю, что в одной из комнат скоро умрет парень — тот самый, который красит ногти и кого я считал мужелюбом. Сегодня рано утром к нему в комнату вносили кислородные баллоны. Дворник притащил их со склада; у нашего дворника великолепные казацкие усы; я слышал, как он спросил у Маргит, сколько, она думает, понадобится кислороду. Маргит что-то ответила, и дворник проворчал, что это только добро переводить, и в таком случае придется завтра подвезти новый запас: ведь никогда не знаешь, кому может понадобиться… А у меня родился сын, да не какой-нибудь обыкновенный сын, а сын в сорочке. Как Агнес его назовет?
Перед дверью того парня, который красит ногти, с баллонов стирали пыль — ведь в больнице должен царить порядок. Наверняка царит порядок и в той больнице, где мой сын. Наверно, и там ревностно следят за чистотой, наверно, и там есть кислородные баллоны, потому что с этими грудными младенцами всякое случается. Я что-то слышал о воспалении пупка и родовых травмах. Но будем надеяться, что с моим малышом все в порядке — ведь он родился в упаковке.
В темной аллее — ни души, видимо, это создает у меня особое настроение, и я вполголоса и даже с нежностью произношу: «Будем надеяться, что с моим малышом все в порядке». Я думаю об Агнес, на миг представляю ее очень ясно лежащей под одеялом; интересно, торчит ли из-под одеяла ее немного искривленный палец левой ноги?.. И вновь волна растроганности пробегает по мне, как легкое прикосновение.
Я сажусь на скамейку. Итак, у меня сын. Но все это как-то далеко от меня. Правда, я вижу все ясно, но словно в перевернутый бинокль.
И вдруг я ловлю себя на том, что ни разу не позвонил в больницу. Ни разу.
У скамейки холодные подлокотники. Холодные и враждебные. Но ведь это железо, думаю я, а железо должно быть холодным. Холод обитает в самой сердцевине железа. Я повторяю и эту фразу вполголоса, затем поднимаюсь и иду к дому. Итак, с этого дня я — отец…
В коридоре я замечаю, что за дверью того парня, у которого рак легкого, уже стоит пустой кислородный баллон.
Войдя в свою комнату, я — как уж у меня заведено по вечерам — распахиваю окно, но тут же закрываю. Холодно. Опершись руками о подоконник, долго вглядываюсь в сумерки.
Вот оно что!.. Вдруг я понял, почему крапива казалась мне прохладной. Как-то в детстве я ходил с батраком ловить раков. Это было ночью. Горел костер. От реки шел пар. Батрак возился в воде, выковыривая из нор раков. Перед тем, как идти спать, мы засунули раков в мешок, и я должен был нарвать в него крапивы. В крапиве раки еще долгое время живые: им там хорошо — в сырости и прохладе. Мешок с раками мы оставили за воротами сарая, и когда я утром слезал с сеновала, он тихо потрескивал. Густой туман стоял над землей; я широкой дугой пустил струю и, прислушиваясь к похрустыванию мешка, подумал, как хорошо и прохладно этим ракам в мешке, среди темно-зеленых листьев крапивы. На следующий день их с укропом отварили, но это ничего — зато перед этим в мешке им было так хорошо и прохладно.
Я все еще стою у окна. Я тоже мешок, набитый раками… Может, и я тихонько похрустываю, когда они там, внутри меня, в темноте, расправляют свои клешни. Но завтра меня еще не сварят!
На дворе начинает моросить. Стекло затуманивается от мелких дождевых капель, и вскоре я уже ничего не могу разглядеть. Вдруг впервые за много-много лет я плачу. Я и сам не знаю, печальные это слезы или счастливые. Ведь на свет появился мальчик, мальчик в сорочке.
Читать дальше