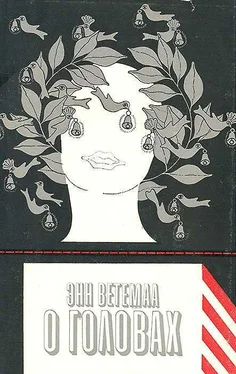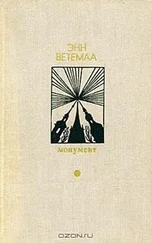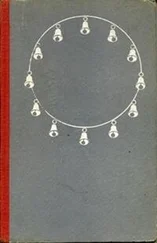«Его звали, разумеется, Анри де Тулуз-Лотрек».
«И само его имя тебе не подсказывает, где он мог родиться? Таких, как ты, я безжалостно заваливал бы на экзаменах».
«Если будешь мне мешать, я, конечно, завалюсь».
Она стала рыться в своих конспектах; я был вынужден заметить, что всякий мало-мальски интеллигентный человек на мой вопрос без запинки ответил бы: в Тулузе или вблизи нее. Даже если он и понятия об этом не имеет, и даже если Анри де Тулуз-Лотрек и не думал там появляться на свет. Мне сообщили еще более ласковым тоном, что Лотрек родился неподалеку от Верхней Гаронны. «Не тебе меня заваливать», — услышал я в ответ.
«А зачем он отрезал ухо у своего друга Гогена?» — Я знал, что это не так.
«Это Винсент Ван-Гог отрезал и…»
«Ах, значит, Ван-Гог отрезал у Лотрека ухо. Прелестно. Очень дельный поступок. Это место выучи назубок». — Становилось весело.
«Да не у Лотрека, и не Ван-Гог… то есть отрезал-то Ван-Гог, но не у Лотрека, а у самого себя».
«Тоже неплохо. Мне нравится, что от моей жены требуют знания таких вещей».
Тут она разозлилась не на шутку: привстала на подушках и заявила, что уходит в другую комнату. Я одобрил эту идею, добавив, что в противном случае мне пришлось бы самому это сделать. Но тут же мне стало жалко ее. К тому же это было действительно смешно, что женщина в японской ночной рубашке, урывая время от сна, должна выучить, кто, когда и зачем занимался отрезанием собственного уха. Безусловно, Винсент Ван-Гог и не догадывался, что его история с ухом — как он, завернув его в папиросную бумагу, несет ночью к своей любовнице в бордель — через восемьдесят лет будет обсуждаться в одной супружеской спальне.
От зубрежки и недосыпания у Агнес покраснели веки. Ленты, торчащие из папильоток, придавали ей сходство с сонной Горгоной.
«Перестань! Ты давно все выучила. Давай спать», — попытался я загладить свою вину.
«Я лягу на диване. Что из того, что там гораздо темнее и у меня насморк», — сообщила она с решимостью человека, идущего на смерть.
И она вмиг перенеслась в другой конец комнаты. Ночник отбрасывал синий свет. Агнес, надевая тапки, чтобы пойти на кухню вскипятить чай, стояла ко мне спиной, и мне вдруг вспомнилась картина Дега с балериной: во время экзаменов все столы у нас были завалены художественными открытками.
«Ну, что ты… Я буду нем, как рыба. Запру рот на замок. Лучше угадай, кого ты мне сейчас напоминаешь, когда вот так стоишь?» — спросил я таким извиняющимся тоном, на какой только был способен.
Агнес строптиво молчала. Ей было холодно, и, видимо, она была уже готова вернуться.
«Ну, ладно, немного подскажу, — продолжил я. — У Дега есть такая… Нет, теперь уже не то. Только когда ты стоишь спиной ко мне. Скажи, как называется эта картина? Да ты знаешь ее…»
Агнес задумалась. Лицо ее стало совсем детским.
«Вовсе это и не Дега… Ты ведь имеешь в виду ту картину, где слева цветущая вишня. Это Гоген. А другая женщина сидит на карточках; смотри, вот здесь. Ты путаешь Дега с Гогеном. «Таитянки на берегу моря».
И Агнес нырнула обратно под одеяло. Агнес, которая видит себя совсем иначе, чем я. У нее на самом деле длинные темные волосы, только кожа у нее не желтая. «Мазоквинсентавангогастановитсяещеболеенервнымипрерывистымчтооднаконеследуетобъяснятьначинающимсяпсихическимзаболеваниемкотороевсежевтысячавосемьсотвосемьдесятвосьмом…»
Я почувствовал, как проваливаюсь в сон. Какой-то длиннолицый человек шел вдоль темной улицы и нес в руке большое красивое ухо из розового марципана. Потом он взлетел.
Опять вечер. И опять я сижу на пустом ящике из-под гвоздей рядом с компостной кучей, и все вокруг — как обычно. У железнодорожной насыпи, конечно, распевают песни, и каждые семь минут визжит на повороте трамвай.
А ведь Агнес написала мне, что теперь все по-другому. Она написала мне, что я стал отцом.
«Ты стал отцом…» Это звучит довольно высокопарно. Я бы сказал просто: у меня родился сын; а это разные вещи — мне уже невозможно кем-то стать, мне дано стать только тем, чем я становлюсь тут день от дня.
У меня родился сын, да не просто сын, а сын в сорочке. Я спросил у главного врача, что это такое — сорочка. Оказывается, это плодная оболочка или что-то вроде этого; обычно она исторгается через некоторое время вслед за ребенком. А если этот комплект выходит на белый свет целиком и полностью, то про ребенка говорят — родился в сорочке. Однажды я видел, как жеребится лошадь, так что я какое-то представление об этом родильном деле имею.
Читать дальше