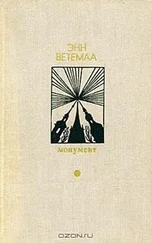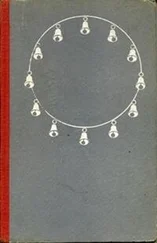— Ты будешь спать в моей кровати, а я… на диване в большой комнате, — задыхался я.
— Клара Цеткин говорила, что… — расслабленно бормотала Катарина.
Но, я думаю, на этом самом месте разумно прервать главу.
Умный и разумный абитуриент, который понятия не имеет, что слова песни "Каждому найдется где-то кто-то" (или вроде того) могут соответствовать истине, как раз сейчас в торжественно убранном зале нашей средней школы пишет сочинение на аттестат зрелости.
Иосиф сын Виссариона уже преставился… Внутренний автоматизм абитуриента, то есть мой, естественно, сделал свои выводы из этого факта, но они не мешают мне писать выпускное сочинение про Павла Корчагина. Да и с какой стати. И, естественно, с верных идеологических позиций. Верным я считаю то, что, вероятно, не стоит уже завершать сочинение апофеозом великого вождя, что прежде было всенепременным.
И все же я обнаруживаю в себе некий симптом, намекающий на опасный синдром: единственный человек, единственный гений, от привязанности к которому я не мог избавиться за день-другой — потребуется наверняка не меньше недели, — это великий Иосиф Виссарионович Джугашвили-Сталин.
Мой дорогой деревенский дедушка умер в Сибири, в каком-то лагере смерти, мой другой дедушка где-то в изгнании, но таким духовным измерением — гениальностью и в то же время высшей простотой средств, использованных для воздействия на великий русский и отчасти на эстонский народ — хотя бы на меня, — какими владел великий Сталин, нельзя не восхититься.
Ну, "надеюсь, что справлюсь и с этим…" — поется в песне.
Потому что моя интуиция подсказывает мне, что недалеко то время, когда начнут говорить о его чудовищных делах. По всей видимости, о диктаторстве, тирании, культе личности и так далее. И Сталиным станут пугать детей. (Правда, по всей вероятности, временно.) И вскоре я буду смело говорить о страшной несправедливости, которая выпала на долю моего деда, который сам себя сотворил и в похвалу которому у его тогдашних рабочих (не многочисленных) наверняка и сейчас еще достанет добрых слов. И разве мог человек, рожденный в другое время и в другом обществе, сразу же уловить изменившийся пульс эпохи?! Ему следовало бы дать время, чтобы опомниться.
О своем втором дедушке, господине Штуде, придется, к сожалению, молчать. Может быть, всегда. А может быть, и нет… Но сейчас я, естественно, стесняюсь его существования и даже унаследованной от него крови, которая помимо моей воли все ж таки течет в моих жилах.
Да, но все это не мешает мне писать сочинение. Я знаю, какого сочинения от меня ждут, и именно таким оно будет. Нетрудно писать, если твоя душевная жизнь, так сказать, сама себя темперировала в верный и удобный политический звукоряд. Естественно, за сочинение я получил "отлично".
Выпускное сочинение завершает в жизни человека длинный период, целую эпоху. Что делать дальше? Для меня этого вопроса не было. Разумеется, я решил поступать в Художественный институт.
И в один прекрасный июньский день я, с чемоданом из желтой фанеры — таким, с закругленными углами, каких сейчас уже не встретишь, — вошел в парадную дверь храма искусств. Этот дом я собираюсь почтить своей учебой, подумал я. Подумал, разумеется, шутя, но я знаю, что часто такая самонастройка помогает обрести уверенность в себе, необходимую для непредвиденных ситуаций.
В моем чемоданчике была дюжина тщательно отобранных работ, характерных для каждого моего творческого периода. Все они были бережно завернуты в целлофан, а в некоторых пакетиках была еще и тончайшая стружка; из каталогов я знаю, что так мы, Штуде, уже столетие назад упаковывали свои сверххрупкие марципановые чудеса.
И, конечно, была в чемодане еще и папочка с одной очень важной бумагой: кондитерская фабрика "Калев" сообщает, что очень заинтересована в использовании именно этого молодого человека в качестве специалиста для придания своей продукции современного оформления; согласны даже взять на себя обязанности по выплате стипендии (или ее части). Получить эту справку было нетрудно, так как директриса Эдда Маурер была истинным ценителем марципанового искусства, на ее лице — когда она рассматривала принесенную панораму Брейгеля — появилось точно такое радостное изумление, как у одного пожилого конькобежца с картины великого Питера, который как раз упал на свой зад… Когда она услышала, что и все формы сделал я, она тут же лично написала мне рекомендательное письмо.
Читать дальше