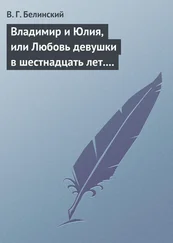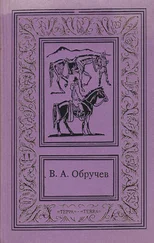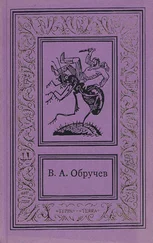Подойдёт спокойно, сплюнет на снег окурок — и… разбитый, уничтоженный одним взглядом его, Демьян закричит в испуге, бухнется на колени, ползая по грязному, истоптанному снегу, будет цепляться за полы Серёжиного пальто, рыдать, просить пощады.
Но ничего подобного не произошло. Демьян стоял перед глазами, как живой, и лицо его оставалось всё таким же пугающим, бестрепетным. «Ну, Горел, написал?» — казалось, вот-вот спросит он.
От этого Серёжа и проснулся, Лежал, натянув на подбородок одеяло, прислушивался. В отсветах фонаря по оконному стеклу скользила тень от тополиной ветки — тонкая, дрожащая, похожая на растопыренную пятерню слепца, ищущую шпингалет, чтобы распахнуть окно.
Младенческие страхи. Всё чудилось в детстве: хлопнула дверь лифта, едва слышно щёлкнул отпираемый замок, женщина в зелёном длинном платье с мертвенно бледным лицом подошла к кровати, нагнулась, приложила ко лбу ледяную руку. Особенно во время долгих изнурительных болезней — в детстве страдал от тысячи самых разных хвороб — боялся одиночества, темноты, боялся смерти. Хотя не представлял её отчётливо. Казалось просто: подхватит беспощадная рука, вытащит из тёплой кровати, унесёт за тридевять земель в неизвестность, холод, тьму.
Неведомые тени вползали на потолок. Горстями, как сеятель, бросал в окно ледяную крупу трудяга ветер. На балконе сиротливо постукивали плохо пригнанные куски, пластмассовой обшивки.
Серёжа поджал к животу ноги, повернулся на бок, нагревая щекой прохладный край подушки. Так бы и пролежал целый день в постели, затаившись, как в безопасной уютной норе.
Но зачем было думать об этом? Стояла ещё глубокая ночь. Только четыре окна в доме напротив желтели в синеве. Но вот со школьного двора донёсся густой, басовитый лай, загудел набатно, прорезая морозный ломкий воздух. Значит, вывел уже на прогулку собаку заботливый хозяин.
Скрипнула дверь, тонкий луч света, вытянувшись, скользнул по полу, стал шириться, разрастаясь, и тотчас ударило по глазам: в ослепительном сиянии ступила в комнату бабушка, как икону для благословения, держа перед собой большие часы деревянным циферблатом вперёд. Была она в ночной розовой рубахе, бумажные бигуди на реденьких, младенчески тонких волосах от движения шевелились, шурша.
— Поднимайся, Серёжа! Поднимайся! — говорила бабушка громким шёпотом и, прижав к животу часы, шарила по воздуху рукой.
Из-под полуприкрытых век Серёжа следил, затаившись, как бабушка с размаху тычется то в стол, то в шкаф, поводит рукой, точно щупом.
Вставать не хотелось. Серёжа знал: отец по многолетней, выработавшейся в археологических экспедициях привычке даже зимой просыпается рано.
В шесть, в половине седьмого бывает на ногах. Наверное, он закончил уже зарядку и вот-вот прошлёпает в ванную, в майке, в синих тренировочных штанах, припадая слегка на левую, раненную в войну ногу.
Неловко стало от одной мысли, что придётся встречаться с отцом в это утро и ощущать на лице своём его заботливый, слегка обеспокоенный взгляд. «Отчего хмурый? Плохо спал? Вид твой мне не нравится. Постой-ка, постой, а нет ли у тебя температуры?»
В тот же миг обязательно появится из спальни мама; поспешно усадят его в кухне на табурет, и начнётся заглядывание в рот, подсчёт пульса, прикладывание холодных рук ко лбу. И в каждом слове, в каждом взгляде столько неприкрытой тревоги, что против воли отведёшь глаза, бормоча в ответ невнятное.
Смутное чувство неприязни к себе, стыда поднялось в душе, когда представил себе ясно эту сцену. Как будто совершил что-то недостойное, постыдное, а они в ослеплении своём не видят, не замечают, считая его всё тем же, прежним,неизменно порядочным, добрым.
Бабушка ткнулась коленкой в край дивана. Рука её, сухонькая, морщинистая, потянула одеяло. Теперь уж действительно не отвертеться. Придётся вставать, хотя на часах только семь, и школа в пяти минутах ходьбы от дома, и счастливые одноклассники ещё видят безмятежные сны.
Бабушка — бывшая учительница. Она неумолима. Она терпеть не может разболтанности и праздного лежания в постели. «Ты должен вставать в семь, чтобы избежать спешки, — твердит она Серёже из года в год наставительным, не терпящим возражения тоном. — Когда человек торопится, он глотает пищу, не прожёвывая, и этим навеки губит свой желудок. Начинается с расстройства, несварения, а кончается хроническим неизлечимым недугом. К тому же утренняя спешка часто приводит к опозданиям и что ещё хуже — прогулам. А у тебя и так не всё благополучно с учёбой».
Читать дальше