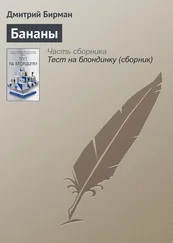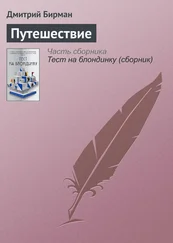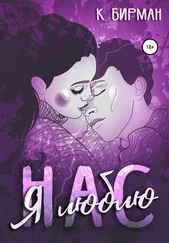Не вспомнить. Туманится. Теодор впадает в дрему. Пускай так и движутся в памяти тени, словно серая кошка, что длинным забором — блеклым, унылым — идет. Свой цвет получила в наследство от матери серая кошка, забору навязан он сыростью многолетних осенних дождей. Тюремные нары, больничная койка нередко приводят человека к мыслям о потустороннем. А тут еще — вид на угол собора через решетку. И когда смотрящий на собор сквозь решетку, подобно Теодору, — обычная личность, правосудием остановленная внезапно посреди жизни, зарождаются в голове глядящего смещенные в иные сферы мысли. О хрупкости жизни, о вечном и неизменном. Но противится им Теодор. Что это за мысли нарушенные лезут мне в голову? — спрашивает он себя. Ну да, положим, обычные мои мысли похожи на движение звеньев велосипедной цепи: проходим зубцы, видим педаль и ботинок, убегающую землю, резиновые шины, промельк колесных спиц… Ну и что?
Ломает себя Теодор. В пику новым мыслям вспоминает он лекцию об иудаизме, которой развлекал Серегу по дороге в Димону. То есть нельзя объяснить человеку иудаизм по дороге в Димону, да и Теодор — знаток иудаизма не более чем полковник КГБ — ангел, несущий миру Благую Весть. Потому сосредоточился Теодор в лекции на частном вопросе, а именно: на соответствии манеры ношения ермолки характеру и убеждениям того, кто пришпилил ее к своей голове специально для этой цели предназначенной заколкой. Конечно, после года в стране Сереге нет нужды объяснять, что с помощью ермолки прячется еврей не от солнца, а от Бога, и богобоязненный еврей поверх ермолки надевает еще и широкополую шляпу. Но и под ней порою находит его Всевышний. Ермолка, объяснял Теодор, лежащая на голове так, что центр ее совпадает с осью, проведенной через тело прямо стоящего еврея, выдает его заурядность. Потому и не стоят евреи прямо, и даже раскачиваются в молитве, растолковывал Теодор, чтобы нельзя было через них провести мысленную ось и сделать заключение об их заурядности. Ермолка, сдвинутая набок, указывает на лихость характера. Сдвиг назад, в сторону темени, — свидетельство опасного вольнодумства. Сдвинутая на самый лоб ермолка не говорит об этом лбе ничего — такой человек. Одноцветность и особенно черная бархатистость ермолки конституируют традиционное, чисто теологическое наклонение мысли. Цветная вязаность однозначно декларирует территориальные притязания к соседним народам.
В этих речах Теодора почудился тогда Сереге неприличный привкус кощунства, о чем он Теодору и объявил. Теодор энергично отпирался. Непризнание божественного происхождения иронии, утверждал он, является ужасной и распространенной ошибкой многих. Это у рвения запах серы, утверждал Теодор, это чудовищное кощунство, говорил он, представлять Бога полковником КГБ, над которым уже нельзя и приколоться по дороге в Димону. Мне недавно попалось на глаза, рассказывал Теодор Сереге, интервью с младшей сестрой Набокова. Журналист спросил ее о брате и Боге. Пожилая женщина ответила: «Мы с ним на эту тему никогда не разговаривали». Мятущийся разум, добавил Теодор (проследить, чтобы не закралась опечатка и не написано было бы «мутящийся»), мятущийся разум у человека от Бога. Страх перед Богом, говорил Теодор, имеет в своем основании убежденность в жестокости и порочности Бога, о которых опасно не только упомянуть, но и подумать. Иначе зачем бы его бояться? Богобоязненный человек, убежденный в том, что создан по образу Его и подобию, предоставляет нам надежное свидетельство своей тайной порочности и жестокости.
В том месте, где находится сейчас Теодор, принято опираться на авторитеты, и томик Набокова, переданный ему по его просьбе Баронессой, достает Теодор из-под подушки. Это ранние стихи и рассказы. Он полистал знакомые страницы, улыбаясь, вспомнил впечатление от прочитанного: из очевидного горячего юного желания написать что-то сногсшибательное выступали черты того фирменного, невоспроизводимого стиля, который мог быть даром только человека, умеющего различать бесконечные разновидности бабочек. Продолжая размышлять, Теодор с присущим ему экстремизмом объявил самому себе, что старая русская литература, Тургенев, Толстой, в общей перспективе уже заняла место на одной полке с Гомером. Даже авторский гуманизм Чехова теперь вдруг показался ему архаичным. Современный человек гуманен, рассуждал Теодор, потому что гуманизм заложен в нем от рождения и с самого детства развит и поддержан его культурной средой. От литературы же ждешь безразличного чуда красоты, и холстом для красок может быть все, что угодно. С отвращением отзываясь о любых формах насилия, будь то нацизм или большевизм, Набоков никогда не соблазнялся отварным книжным гуманизмом, отделываясь в публицистических статьях коротким: «Ненавижу жестокость». Да в самом деле, нужно ли что-то сверх этого? Очень большой мысленной лупой вооружается намеренно Теодор, вглядываясь в либеральные течения мысли, подозревая найти в них бациллы насилия.
Читать дальше