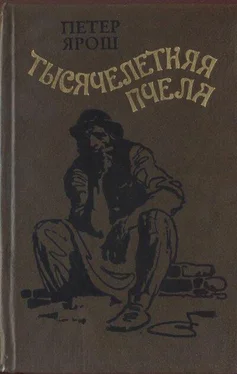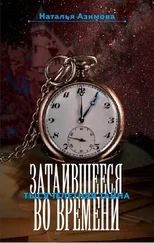Он обомлел, заметив, что Само улыбается.
— И фарар минуту назад упрекал его в том же! — сказал Само и подошел к гробу — в последний раз поглядеть на отца. Он видел, как отцово тело день ото дня разбухает и уже еле умещается в гробу. Не находя тому объяснения, он даже рад был, что отца вот-вот похоронят. Валент, тоже это заметивший, тихо хлюпал в платок.
И вдруг Само ужаснуло видение: погребенный отец растет под землей, тело его разбухает, раздается вширь, пока не покрывает собою весь земной шар. Отец и после смерти путешествует! Он побывает везде, объемлет всю Землю!
Неприятное чувство пронизало Само…
Двери горницы растворились настежь, и толпа провожающих в последний путь хлынула в помещение. Односельчане, друзья и родные попрощались с покойным. Само и Валент накрыли гроб крышкой. Мужчины подняли его, вынесли во двор и поставили на козлы. Тетушки вокруг склонили головы, точно черные вороны. Ружена и внучата заплакали, близких прошибла слеза.
Пробил звездный час фарара.
У многих мороз пробежал по спине от его спесивой и злобной речи.
После прощальной церемонии процессия медленно двинулась к кладбищу, сопровождаемая звоном четырех церковных колоколов. А на кладбище к нему присоединились детские голоса и трубы пожарников.
Наконец гроб опустили в могилу.
Барабанная дробь земли перебила плач и стенания погребального колокольчика.
Кликушество, обычное при похоронном обряде, к счастью, длится не долго.
Вдруг все смолкло, лишь глухо потрескивал гроб под тяжестью земли, которой полнилась могила — вот уж и комья скатываются с нее…
— Вишь, как оно бывает, — наклонился Дула к Цыприху, — потрезвонят десять минут по тебе, и все дела!
Иные люди поминки предпочитают свадьбам. Таков был и Ян Аноста, один из младших двоюродных братьев покойного. Сразу же после похорон он удобно устроился со своей женой Евой за столом, на котором постепенно появлялись скромные яства да палинка от Герша.
В начале поминок многим было не по себе, кое-кто наладился плакать. То на одном конце стола, то на другом потихоньку ронялись воспоминания о покойном.
Скорбящая вдова Ружена громко всхлипывала, Кристина утирала ей слезы. За едой и питьем вспоминали о разном: о добром сердце и веселом нраве покойного, о его старании и умелости на поле и в каменщичьем ремесле. Он-де в каталажку ни разу не угодил, никогда не гоняли его по мшистому лесу жандармы, а ежели и случалось драться, то он никого не убил, никому глаз не выколол, ни у кого ничего не украл и ни с кем в суде не тягался. Всю-то жизнь тщился вытянуть жалкие клочки поля, полученные в наследство. Кое-что и прикупил, ибо думал о детях своих и о том, что будет, когда он упокоится. А вот завещание написать не успел.
Еды на столе поубавилось, и наступил такой час, когда в ход шла одна только палинка. Тела и сердца разогрелись, и поминки, переломившись, повалили на свою вторую половину. Вдова Ружена больше не всхлипывала, и опечаленное ее лицо нет-нет да и освещалось еле приметной, хоть и горькой, улыбкой. Дети и внуки покойного тоже разговорились. Наступала та минута, из-за которой так обожал поминки Ян Аноста. Он поджидал ее уже с добрый час и, конечно, не позволил ей пролететь мимо. Он выпятил грудь, осушил рюмку, и как ни толкала его под столом жена Ева, — его понесло. Даже вставать не понадобилось — стоило ему раскрыть рот, и все за столом враз обратились в слух.
— А жаль, что покойный Мартин боялся поездов, — начал Ян Аноста, — нынче нам не пришлось бы его вспоминать вот так…
— Да разве он боялся? — оборвала его Ружена.
— Еще как! Своими глазами видел, до чего боялся!
— Да ведь он же сам ездил поездом не раз, — возразила вдова.
— Ездить-то ездил, а все же боялся, даром перечишь, — стоял на своем Ян Аноста. — Помнишь, тому лет пятнадцать, как вербовали мужиков на чугунку. В Гибах, в Выходной, в Важце и в Штрбе. Столковались мы тогда с ним. Айда, говорю ему, на чугунку, успеем и эти наши клочки обработать, да еще и заработаем малость, чего тут горе мыкать! Гнем хребтину, гнем, полные ладони мозолей, а кроме них, там и нет ничего…
— Так он же пошел тогда с тобой! — отозвалась опять вдова.
— Ну, пошел, а выдержал неделю, не доле, потому как, говорю же, поездов испугался…
— Он-то? Мартин? Такой тертый мужик?!
— А было это так! — продолжал Ян Аноста, опрокинув еще одну рюмку. — Сперва он в охотку работал и киркой и лопатой. Подбивали мы тут, за Вагом, чугунку. Кзбы выдержал, смог бы и каменщиком поработать. А он держался неделю, а потом совсем скис. Был у нас десятником Имро, свойский такой, но щуплый мадьяр. Горячий был как черт, а силенок маловато — вот и водил с собой на сворке овчарку. Мерзкая, громадная была псина — избави бог подступить к десятнику или дотронуться до него. Лопатой посильней дернешь, и то уж на тебя брешет, подлюга! Ну а в тот самый день, в конце недели, стоял Имро с псиной неподалеку от нас. Припекало солнышко, он загорал — ведь за нами двумя, как, впрочем, и ни за кем другим, особо не надо было приглядывать: вкалывали мы на всю железку. А тут вдруг— от Выходной поезд. Мы сошли с линии, а Имро — тот с псиной стоял, опершись о семафор. По сей день в толк не возьму, то ли дремал он, то ли просто нежился, но, когда мимо проходил паровоз, пес затявкал злобно и одним махом под колеса. Только что Имро не увлек за собой. А тот, опомнившись, давай изо всей мочи дергать псину из-под колес. Да что там! Пса — напополам, издох в одночасье… А бедняга Имро, словно кто из его родни помер, так убивался и вскорости перевелся на Дольняки [85] Южная Словакия.
. Ну а Мартин тоже был не в себе. Слова из себя с трудом выдавливал. Тут же и сказал без промедления, что, поскольку и с ним такое ненароком может случиться, лучше ему с чугунки уйти… И ушел. Говорю же, поездов испугался…
Читать дальше