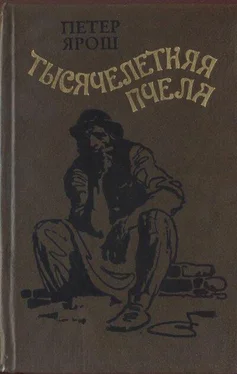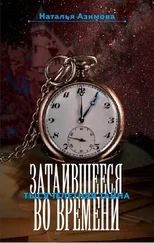Феро Вилиш застрял в самом Киеве. Сначала подметал улицы, потом работал на молочной фабрике. Повстречался там с большевиками. Казалось, они ничуть не смущались его, поскольку беседовали при нем в открытую. Он слушал их с недоверием, дивился тому, что они говорили, но возражать им не смел. Когда его спрашивали, кто он, откуда и что делал дома, он отвечал смело и искренне. Они поверили ему и год спустя стали приглашать на свои тайные сходки. Там он узнал, что они хотят свергнуть царя, а царизм смести революцией. Поначалу у него от страха сжималось сердце, но мало-помалу он освоился. Выучил наизусть их программу, и слова «Ленин, партия, пролетариат, революция», услышанные им впервые на собраниях, уже не звучали для него вчуже. Он и не заметил, как стал верить большевикам.
Мария Радкова почти отчаялась, поглядев на себя в зеркало. Лицо исхудалое, глаза запавшие, с синими подглазьями, тело изможденное, все ее желания остыли, притупились. В кухне над настоями лечебных трав покашливала недужная мать. Мария отбросила зеркало, приникла к изголовью кровати и тихо расплакалась. Всякий вечер ее одолевало бессилие, и тело после изнурительной смены на бумажной фабрике отказывалось повиноваться. Но необыкновенным усилием воли она переламывала себя, самоотверженно поднималась и выходила в город. С горстью мелочи обегала лавки и, раздобыв наконец малость молока, хлеба и картошки, уже чувствовала смертельную усталость. Кое-когда в дверь стучались торговцы из-под полы, ростовщики, перекупщики и за большие деньги предлагали продукты, обувь, одежду или топливо. Но заламывали столько, что и подумать было страшно. По воскресеньям с больной матерью выбирались они в ближние села и пытались купить чего-нибудь у крестьян. Но деньги словно потеряли цену — крестьяне не желали ничего продавать. После изнурительных воскресных походов — если сжаливались над ними две-три крестьянки — они возвращались домой с небольшим количеством яиц в узелках, с горсткой муки, с отощалой курчонкой или несколькими кило картошки. В Белом Потоке она на коленях умолила лесничего Маруньяка, двоюродного брата матери, раздобыть для них воз дров. Они с матерью плакали от радости, когда дрова были сгружены и наполнили своим ароматом маленький дворик. По вечерам они потихоньку пилили, рубили и штабелями укладывали поленья. Хотя Мария и ложилась в постель донельзя усталая после рабочего дня, случалось, что не могла сомкнуть глаз всю ночь напролет. Мерещились ей дикие и страшные видения. Не раз представляла она Петера Пиханду убитым на поле, обезглавленным, без руки или ноги, а себя в холодном застенке. «А может, он уже мертвый, — пробуждалась она от полусна, — может, его убили где-то на чужбине. Или меня совсем забыл, — скулила она в скомканную подушку. — Забыл окончательно, нашел другую девушку, той теперь заглядывает в глаза, шепчет жаркие слова и уже никогда не вернется. Нет, нет, нет, — восставала она, впиваясь пальцами в соломенный тюфяк. — Петер жив, жив и каждый день думает обо мне. Он вот-вот отзовется или приедет, явится нежданно-негаданно и сожмет меня в объятиях…» Рано утром, пожалуй, она и могла бы уснуть, да надо было вставать. С отвращением подымалась она с постели. Равнодушно, нехотя одевалась. И неприметно улыбалась только тогда, когда снова вспоминала о Петере и про себя повторяла: «Ему еще хуже! Ему куда тяжелее приходится! Нет, нет, я тоже не поддамся!»
Жандармы и их пособники так и шныряли от дома к дому, реквизируя у крестьян зерно. Кристина Митронова в отчаянии повисла у пристава на руке, рывком поворотила его к себе и указала на три мешка зерна, оставленных ей в амбаре: «Уж никак этим прикажете нам кормиться до нового урожая? Мой муж воюет в Галиции или еще где у черта на куличках — в Бессарабии, в Сербии, не то на итальянском фронте, а вы меня тут обираете?» Жандарм дернул рукой, высвободился и строго сказал: «Таков приказ! За реквизированное зерно получите деньги!» — «А на кой ляд они мне?! — выкрикнула Кристина. — Все равно нигде ничего не достать. Не у перекупщиков же покупать? Тогда и дом пришлось бы вскорости продать, а все одно подохли бы с голоду!» Жандарм обронил скупо: «Война есть война!» — кивнул своим, и все двинулись к соседнему дому.
Само Пиханда молча стоял в пустой и притихшей мельнице. Он уже давно отвел речную воду, и колесо перестало вертеться. Ян Аноста, возвращавшийся как-то пешком с железной дороги, остановился на мельнице и язвительно заметил: «Эх ты, мельник без муки!» Пиханда обвел руками опустевшую мельницу и сказал, задетый за живое: «Ты что ж, известняк мне прикажешь молоть?» — «И не подумаю, — возразил Аноста. — Просто знаю одно: будет еще хуже… Глядишь, придется таскать рыбу из рек и зверей из лесов… А когда и то изведем, накинемся на лесные плоды и коренья. Но запросто может стать, что нам и это запретят». Пиханда повернулся к Аносте с недоуменной улыбкой: «Интересно знать, кто это может нам запретить?!» — «Война, голубчик, война! Нашлют солдат и на нас!» — «Надо будет, подымусь и против войны!» — сказал Пиханда. «Против войны не больно-то попрешь! — ухмыльнулся Аноста и, примостившись на весах, стал скручивать цигарку. — Нужно подняться против тех, кто войну затеял и не намерен с ней кончать». Само взял у Аносты из руки уже дымившуюся цигарку и затянулся. «Тогда надо убить императора!» — сказал он раздумчиво и возвратил цигарку Аносте. «Одного убьешь — двух на престол посадят!» — рассмеялся Аноста. «А ты разве знаешь, что надо делать?» — спросил недоверчиво Само Пиханда. «Пока не знаю, но не сегодня-завтра все до этого дойдем!» — сказал Аноста и протянул цигарку Пиханде, подсевшему к нему на весы. Так они сидели, курили, затягиваясь от одной цигарки, а за их спинами скрипел распахнутым окном ветер.
Читать дальше