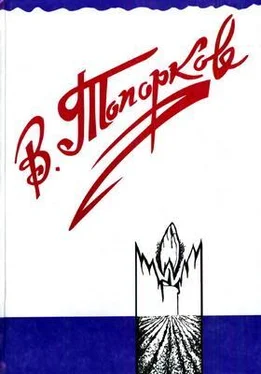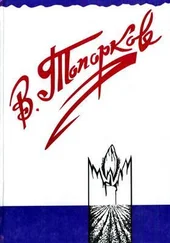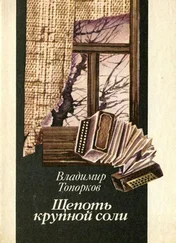Евгений Иванович прочитал эту запись, и невольно перед глазами встал овраг Пастуший. А не такая ли мрачная картина сегодня в этом году? В благодатном краю России, как в пасть ненасытного зверя, уходит чернозём, накапливается страшная беда.
Дальше он анализировал в своих записях, откуда пришла такая беда в чернозёмные степи.
Верил в силу леса как хранителя плодородия князь В. И. Васильчиков, помещик из недальнего села, охранявший вековые дубравы, которые и сегодня шумят листвой. У себя не дал помещик разгуляться топору, а в других местах? Евгению Ивановичу припомнились некрасовские строки:
Где, бывало, леса, вековечные
На огромных пространствах стоят –
Там теперь пустыри бесконечные
Пеленою могильной шумят.
Снова углубился в чтение Бобров и наткнулся на ещё одну цитату в записках Белова. Приведена она была из «Русского леса» Леонида Леонова: «Если не считать лесников, редко владевших доходчивым пером, мало кто писал на Руси, как отразится этот разгул торжествующего собственника на климате, земледелии и ландшафте любезного отечества».
Евгений Иванович оторвался от записей, вспомнил замечательный роман. Всякий раз, когда он берёт книгу в руки – этот своеобразный гимн русскому лесу, не перестаёт удивляться силе слова писателя, его искренности. Кажется, сам вступаешь под сень вековых лесов, шагаешь вместе с профессором Вихровым. Вспомнил Бобров, что о князе Васильчикове говорится и в романе, когда читает профессор Вихров обзорную лекцию о русском лесе. Как там? Ага, вспомнил: «Вот уж Аксёнов плачет над лесной статьёй Васильчикова, и все разумеют грядущую расплату…»
Разумеют ли? Да и только ли в этом беда? Вот и Николай Спиридонович вроде всё понимает, а глядишь сейчас на восходовские поля, и злость на теле струпьями выступает.
Евгений Иванович отвлёкся от записей, в шкафчике отыскал книгу Василия Васильевича Докучаева «Русский чернозём». Ещё в первый день приметил он три докучаевских серых тома в шкафу у Белова. На пожелтевших страницах пестрели восклицательные знаки, чёрточки, полоски. Значит, частенько заглядывал он сюда, читал с пристрастием, увлечён, судя по этим пометкам.
Размышлять и восхищаться есть чему. Даже тому, что почти семь лет жизни Василий Васильевич посвятил своей главной книге «Русский чернозём», или тому, что только за два летних сезона прошёл и проехал он по России десять тысяч вёрст. Заставь сейчас любого повторить этот подвиг!
В трёхтомнике нашёл Бобров отчёркнутые, видимо, Николаем Спиридоновичем, строки: «Если желают поставить русское сельское хозяйство на твёрдые ноги, на торный путь и лишить его характера азартной биржевой игры, если желают, что оно было приноровлено к местным физико-географическим (равно как и историческим и экономическим) условиям страны и на них зиждилось (а без этого оно навсегда останется биржевой игрой, хотя бы годами и очень выгодной), безусловно, необходимо, чтобы эти условия – все естественные факторы (почва, климат с водой и организмы) – были бы исследованы по возможности всесторонне и непременно во взаимной их связи».
Прочитал эти строки и задумался. Как точно определены задачи и науки, и практики. Много лет с тех пор прошло, а стали ли эти слова краеугольным камнем сельскохозяйственной науки? Не чаще ли наоборот: кавалерийским наскоком упорно пытаемся делать одно и забываем о другом? О каких тут естественных факторах в комплексе может идти речь!
Бобров учился в школе, когда газеты печатали пространные речи Хрущёва по различным вопросам сельского хозяйства. Речи, речи, речи… И главный стержень – пропавшая система земледелия, и главная культура – кукуруза. Прав Николай Спиридонович – помешались тогда на ней. А сколько людей погубили за строптивость, за желание мыслить самостоятельно, по-другому. За инакомыслие платили люди здоровьем и благополучием, сгорали, как на кострах инквизиции.
Евгений Иванович вернулся к столу, снова углубился в записки. В них чувствуется подавленная грусть, та, с которой рассказывал Николай Спиридонович о своей агрономической одиссее. Размышлял Николай Спиридонович о том, как классики русской агрономической науки определяли меры борьбы за оздоровление русского чернозёма. Главными факторами они считали лес и воду. Регулировать местный сток, сажать лесополосы и леса на водоразделах, на берегах рек и водоёмов, у балок и оврагов, продумать системную обработку склоновых земель, задерживать влагу и особенно снег на полях, создавать пруды и, главное, применять чёрные пары – все эти меры будут способствовать восстановлению правильного водного режима, предотвращать эрозию. Снова приводил Николай Спиридонович цитату из Докучаева, его своеобразную программу, когда тот отправился в Воронежскую губернию, в Каменную степь: «Мы попытаемся реставрировать наши чернозёмные степи – эту общепризнанную житницу России, которая, к величайшему сожалению, оказалась пустой в самое нужное и тяжёлое для нас время…»
Читать дальше