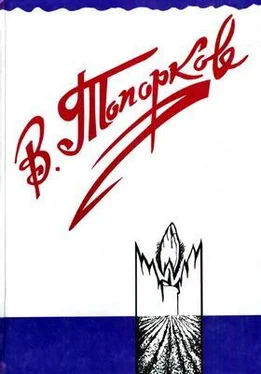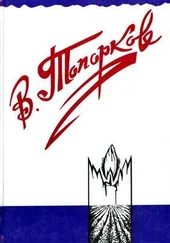Закрутились колёса, спицы словно блестящий круг образовали, а Илюха всё дёргал вожжами, торопил лошадь. Лёнька махнул брату рукой, дескать, иди домой, но Андрей всё стоял и стоял, глотал сухую пыль, поднятую телегой, моргал часто. Уже юркнул резво Бабкин в контору, за кустами скрылась телега, а Андрею не хотелось идти домой. Понимал он: придёт – и темень одиночества поглотит его, заноет душа, размозжит тело, как могучий молот.
Степь под жарой – словно ленивая корова, разлеглась покойно, чуть шевелит ковылём и пырьём. Вздрагивают сомлевшие метёлки овсюга, раньше времени выброшенные этим цепким сорняком. За жизнь свою борется стойко, по-солдатски. Положишь семя его на сухую руку – ползёт, как муравей, норовит соскочить с руки, впиться клещом в землю, чтоб родить новое потомство.
Подумала об этом сейчас Евдокия Павловна и усмехнулась: а разве люди не так? Поездила она по району и несказанно удивилась: сколько брюхатых баб, прости Господи, в деревнях – просто взрыв какой-то. За годы войны она отвыкла от этого, женщины в деревнях, как щепки сухие, поджарые, сумрачные лицом, а сейчас словно мальвы в поле – порозовели, соком налились, животы свои носят, как генералы. Кажется, стараются женщины восполнить великие военные потери, снова наполнить жизнь звоном детских голосов, тишиной, радостью, отлюбить за долгие годы разлуки.
Ехала Сидорова в дальнее село Товарково, забытое Богом и начальством. Всё-таки тридцать километров от райцентра, даже на лошади не сразу доберёшься, а пешком? Но за военные годы научились люди пуще всего надеяться на собственные ноги, раз-два – и пошли-потопали, в любой край огромной державы. Да не просто налегке, а с младенцами, с чемоданами и мешками, в драных, с оторванными подошвами обутках, а то и просто «раззуком», как выразилась одна украинка. До костей стирали ноги, будто это не больная плоть человеческая, а бесчувственная деревяха под острым рубанком.
Видела не раз Сидорова, как таскали женщины с Хворостинки семена. Два пуда в мешок и пополам верёвкой перевяжут – получается вроде верблюд двугорбый, если эту поклажу на плечи взвалить. Вот и качаются женщины, как караван в пустыне, бредут по осклизлому или просыпающемуся, напитавшемуся водой снегу, по лужам, чавкающей грязи. Если и надо ставить памятники – то вот этим великим и величественным, как царицы, русским бабам, которые всю войну, весь фронт несли на своих плечах и в прямом, и переносном смысле. Думалось тогда, что никогда не вернётся тихая радость в дома, подсушила, измочалила её война, вымела корявой метлой утрат и потерь, навсегда захлопнула жёсткие ставни сердец.
Но вот пришёл мир, и оттаяли женские души, вытолкнули пугливые ознобы, которые заставляли внезапно просыпаться, зеленеть лицом, как под ветром-сиверко, разогнали сгустки мрака, и хоть не часто, но светятся лица улыбками. Конечно, память – вещь цепкая, она оставляет свои зарубки, жёсткие замеси, а для вдов вроде Ольги Силиной война ещё не кончилась, она в голове, в мозгу, в сердце, грохочет гулкой канонадой и будет долго звучать, как горный обвал, отдаваться в углах резким, болезненным звуком.
А материнские слёзы, чёрные сгустки в памяти про невернувшихся с войны сыновей и дочерей? Это как тавро, ожог на сердце, который никогда не покраснеет, не приобретёт нормальный цвет, будет болеть сквозной ножевой раной. Не может Сидорова смириться с потерей своего сына, не выскрести его из памяти ни ножом, ни острой лопатой, ни стесать яростно топором. Хорошо, что муж вернулся из госпиталя, порозовел, перестал кашлять, – этот раздирающий кашель и сейчас стоит в ушах, – но слабость ещё не преодолел, вроде ветром его колышет, как занавеску на окне.
Старается он не показать Евдокии свою немощность, точно плотной кольчугой закрывается, стараясь обходить разговоры о здоровье, но разве спрячет он своё состояние от жены? Скоро двадцать пять лет, как вместе, в одной упряжке, лепят на шаткой земле своё счастье и благополучие. Правда, плохо лепят, хоть и стараются, бревно за бревном, кирпич за кирпичом укладывают на хилый фундамент бытия. Жизнь что ли такая трудная?
Любит мужа Евдокия, хоть на партийной работе пришлось ей постоянно вращаться в мужском кругу, и кое-кто наверняка на неё имел виды, а двое – не хочется вспоминать – в открытую предлагали постель разделить, только кроме отвращения ничего от них не осталось. Не осталось, и хорошо – будет легче нести голову, чище сердце станет, на нём не зацепятся, как паразитическое растение-заразиха, грязь и пошлость.
Читать дальше