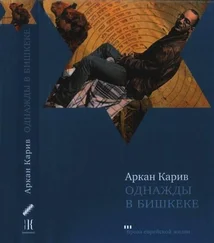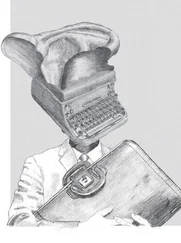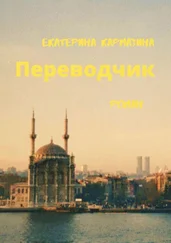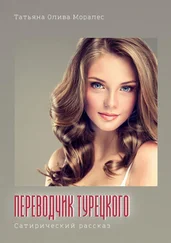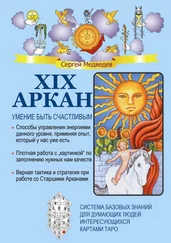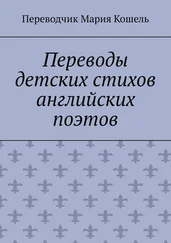Так вот. Написать в ту пору роман и не таясь назвать его «Жизнь Александра Зильбера» — это уже граничило с подвигом. Пагуба безгласности ведь не в том, что о чем-то запрещают писать. Главная пагуба в том, что из-за великого тумана недознаний, экивоков и недосказанностей по-настоящему думать об этом «чем-то» делается весьма затруднительно. Неартикулированная, как сказали бы сейчас, тема грозит так и остаться недоступной никому — ни читателям, ни даже писателям.
Карабчиевский писал о евреях. О русских евреях — в русском, то есть советском обществе. Вернее всего было бы сказать, что он писал о себе. Рассчитывал ли он на читателя? Не знаю, трудно сказать. Если судить по оборотам типа: «А теперь представьте себе…» или «Вы, конечно, знаете…», то чисто гипотетически, — что в «сам»- или «тамиздате» прочтут, — возможно, и рассчитывал. Хотя, быть может, это были всего лишь фигуры речи — ведь любая литература, даже писанная «в стол», — это попытка общения. Думаю, что на самом деле разобраться, объяснить самому себе для Карабчиевского было важнее, чем объяснять другим. Вот и писал, пытаясь ответить на самому же себе поставленные вопросы. Кто — я? Почему я такой? Почему — не как все? Потому что еврей? Но что такое — еврей? И почему их не любят? И где он во мне — этот самый еврей? И только ли в еврействе причина?..
Вопросы, вопросы. Все зыбко, неясно, ничего окончательного. Потому и понадобилось ему так тщательно, словно разглядывая их в микроскоп, воссоздавать нюансы семейного быта, обстановки, отношений между людьми, своих (простите, Зильбера) детских переживаний. Воссоздавать, восстанавливать во всех «подробностях, которые одни только и составляют суть дела» (цитата). А коли так, то надо, просто необходимо описать, например, всю технологию той зашифрованной для постороннего глаза (учительницы или пионервожатой) пытки, которую учиняют одноклассники под дирижерством малолетнего антисемита своему соученику-еврею. Вспомнить (хотя что вспоминать — вот же они, на слуху!) словечки и недомолвки, касаемые лиц «несоциалистической нации в социалистическом государстве».
Юрий Карабчиевский не был ни юдофилом, ни сионистом, даже собственное еврейство было для него под вопросом (естественно, не в смысле генетических корней, а, так сказать, в общекультурном плане). Он пытался понять себя в этом мире. И в силу этой склонности был, конечно, «ушиблен национальным вопросом». В написанной несколькими годами позже «Тоске по Армении» вопрос о национальной самоидентификации — себя как писателя, себя как человека — явился чуть ли не лейтмотивом. Карабчиевскому очень импонирует, как армяне умеют гордиться тем, что они армяне. Услышав от своего знакомца название рассказа Сарояна «Где бы ты ни был, кричи: я армянин!», он попытался обернуть сказанное на себя. И вот что из этого получилось:
«Здорово, говорю я, ничего не скажешь, здорово, ладно, кто его знает, возможно, ты и прав… И тут же, примерив на свой аршин, дважды наполнив это название иным содержанием, я испытываю острую зависть к армянам. Где бы ты ни был, кричи: я армянин! Прекрасно. Гордо, мужественно, трогательно. Где бы ты ни был, кричи: я русский! Глупо. Русский так русский, чего орать-то. Глупо и — подозрительно. Где бы ты ни был, кричи: я еврей! Смешно, пародийно, анекдотично. Да и кто это станет кричать, какой идиот?..»
Вопросы, вопросы… Таков Карабчиевский (и Зильбер-старший).
Зильбер-младший словно бы соткан из другого материала. То есть вряд ли он совсем уж чужд всяким там вопросам, но национальный точно не по его части. Он давно уже все решил: он — еврей. И по барабану ему все эти родительские сложности и метания. Еврей — и баста! Впрочем, ни о чем таком в «Переводчике» не говорится, нет там никакой истории, как он к этому пришел. Вспоминая Зильбера-старшего, можно только вообразить, какие споры звучали в доме, даром что Зильбер-младший сбежал оттуда в возрасте двадцати лет. (Интересный, кстати, нюанс: ведь и Зильбер-старший в юности порывался уйти из дома, только решимости не хватило, мать и отчима пожалел. У младшего — хватило).
Так что — никакой предыстории по данной теме. И вообще — никаких детства — отрочества, Мартын не любит вспоминать время, когда он «был еще куколкой» в смысле — не бабочкой. Разве что юность, когда его уже охватила мечта, о которой не без сложной патетики говорится: «С метлой и лопатой; в дождь и в снег; в кругу друзей и в вагоне метро; под музыку Вивальди и под гудение политинформатора; лаская ли подругу, утешая ли сам себя; во дни печали и в минуты радости — я пламенно мечтал добраться до Израиля и припасть к народу своему».
Читать дальше