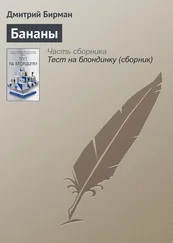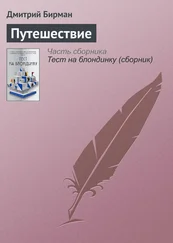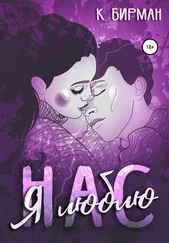Е. Бирман - Эмма
Здесь есть возможность читать онлайн «Е. Бирман - Эмма» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Современная проза, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Эмма
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Эмма: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Эмма»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Эмма — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Эмма», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
А он, оказывается, умеет неплохо изображать еврейский акцент, подумал я, он ведь приехал к нам откуда-то из украинской глубинки, там, наверное, исторически жили во множестве евреи. Там были эти самые «местечки». Холодок, вдруг, пробежал у меня по спине — а вдруг он в детстве за моей спиной вот так же кривлялся… А вдруг его победа в нашем соперничестве за Эмму обусловлена… Что, и Эмма? Господи, какие глупости!
Но коль скоро уж коснулся я ксенофобии и связанных с ней обид и подозрительности, выскажу здесь одно соображение, которое недавно пришло мне в голову. Есть любопытное противоречие в той легкости, с которой позволяем мы в своей собственной однородной, безопасной среде шутливый негатив в отношении другого племени и неприязнью, которую испытываем мы же, когда на наших глазах оскорбляют на этой почве конкретного человека. И тут свисает в темноте с потолка петля, а при ярком бальном освещении разложены под столами, покрытыми опускающимися до самого пола скатертями, капканы, в которые очень даже легко угодить. Дважды на моей памяти «там» хорошо знакомые мне, вполне образованные люди, как правило, перепив и не осознавая моей причастности и присутствия, делились наблюдениями, выставлявшими евреев в сомнительном свете. Оба на следующий день извинялись, я знал, что искренне, знал, что на трезвую голову не принимают всерьез того, о чем говорили вчера, но сделать ничего уже было нельзя. Охлаждение в отношениях с ними оставалось, и не видно было возможностей возврата к прежнему состоянию.
Глядя на вышеприведенный абзац с литературно-художественной точки зрения, я понимаю, что для восприятия высказанной мысли с максимальным сочувствием текст этот должен быть как бы перевернут и оживлен. То есть я должен выставить именно себя в нем виновным, а не жертвой, изобразить себя перепившим, угощающим участвующих в беседе ксенофобскими (русофобскими, например) сентенциями в присутствии Шарля (что-нибудь, например, о неготовности русских к демократии западного типа), затем извиняющимся перед ним. А через какое-то время, когда я опять увлекусь, «приму», как говорится, «лишнего на грудь», Шарль пожмет плечами и скажет окружающим: «Ну, вот. Родольф опять надрался, через десять минут начнет русофобствовать, а через час — обрыгает стену». Да, нужно переделать, так и опишу. Но не сейчас, неприятно все-таки, потом, — когда закончу этот роман, отшлифую его, буду уже вполне им доволен. Эти строки как раз и послужат мне напоминанием.
35
Явно нарушившееся теперь политическое равновесие в нашем небольшом обществе смущало меня, и теперь вам, должно быть, станет яснее, что толкнуло меня в «леваки-либералы», так что в какой-то момент мне представилось даже, что я вполне мог бы стать полноправным членом какого-нибудь очень исторического, очень заслуженного кибуца, похожего на приют для свергнутых монархов и разорившихся герцогинь (монархов идей, герцогинь духа). Настраиваясь же на волну собственной интуиции и отвлекаясь от посторонних соображений, я (как и многие другие) пребывал в убеждении, что я — человек умеренный, объективный. Я не знаю, что думают историки и психологи о причинах рано возникшего у людей стремления прикрывать зад и гениталии, но испытываю смущение и неловкость, когда слышу басистый словесный пердеж ура-патриотов или становлюсь свидетелем церемонии, на которой выпускает в небо человеколюбивый демагог полудохлого голубя мира.
Ох, черт бы подрал этого Леона, а вместе с ним — еще и Бурнизьен, и Оме. Как я вообще не люблю новых знакомств. Как много времени нужно мне обычно, чтобы проявить себя так, чтобы у постороннего человека сложилось верное обо мне представление. Какой адской кислотой наполняются мои внутренности, когда мне хочется донести до не знающего меня достаточно человека свою мысль, а он вдруг отстраняется, начинает, словно прикрывая ставни, стирать с лица бывшее у него до сих пор на лице приветливое выражение или даже явно хмуриться. Почему? Испуган ли он тем, что, как показалось ему, длинный, узкий, раздвоенный язык мой близко мелькнул у его глаз, счел ли, что — черт его (меня то есть) знает — не глуповат ли я, не страдаю ли от наплыва навязчивых идей, не зашорен ли, не из тех ли неприятных извращенных то ли снобов, то ли экспериментаторов, что страницу в отложенной книге способны заложить дугой срезанного ногтя.
Тяжело мне с незнакомцами. Иногда в такой ситуации я напоминаю самому себе человека, в молодости бывшего активным донором банка спермы, так и не женившегося и не создавшего семьи, а теперь сидящего на набережной, никем не узнаваемого. И вот сидит этот воображаемый Я и грустит, разглядывая проходящую мимо него и, может быть, очень близкородственную ему молодежь. Я потому так люблю бывать у Эммы с Шарлем, что они-то принимают меня всего таким, какой я есть, безоговорочно, всегда. Настоящие «старые друзья». Кавычки в данном случае означают не иронию, а подчеркивают близкое в нашем случае соответствие эталону этого понятия.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Эмма»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Эмма» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Эмма» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.