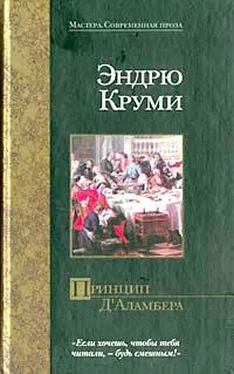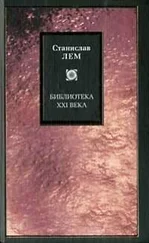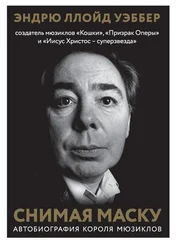Кровь была везде — на земле и на одежде. Рубашка промокла так, словно я окунулся в реку. Голова кружилась, но мысли были ясны, хотя и казались отчужденными оттого, что со мной происходило, словно я тонул в ручье вытекавшей из меня крови.
В какой-то момент нападавшие убежали, словно испугавшись того, что натворили. Я сидел, рукой удерживая на положенном месте мою отрезанную щеку. Фергюсон, хотя он сам истекал кровью, подошел ко мне и начал отрывать полосы от своей рубашки, чтобы хоть как-то перевязать мне рану. Арнотт вскочил на ноги и вместе с остальными нашими друзьями храбро бросился вдогонку за напавшими, чтобы отплатить обидчикам. Фергюсон тем временем перевязал мне лицо обрывками своей одежды. Я помню его теплые руки и бережность, с какой он врачевал мои раны, забыв о своих собственных.
Я смог встать, Фергюсон поддержал меня, и мы продолжили путь к Джо Хендри. Пока мы шли, я начал дрожать от воспоминаний о том, что произошло, о яростном беспричинном нападении. Было странно, что, лежа на земле и истекая кровью, я ощущал непонятное спокойствие, а теперь, когда все кончилось, меня одолевал страх. Фергюсон позже рассказал мне, что испытывал такое же чувство. Когда он, съежившись, лежал на земле, удары и пинки становились все легче и легче, как будто его били не башмаками и кулаками, а подушками или тяжелыми мешками, удары которых были тупыми и безболезненными.
— Но самое странное заключалось в том, — продолжал Фергюсон, — что я внезапно почувствовал, что перестал быть самим собой. Не знаю, показалось ли мне, будто я превратился в другую личность или будто вообще перестал существовать. Дело в том, что на какое-то мгновение исчезло ощущение моей самости, моего существования.
Я испытал нечто подобное, хотя и не в такой крайней степени. Как бы то ни было, тот жестокий эпизод связал нас с Фергюсоном неразрывными узами дружбы. Мы пришли к Джо Хендри, и когда при свете рассмотрели мою тяжелую рану, жена Хендри упала в обморок, и ее пришлось вынести вон. Фергюсон был покрыт синяками и ссадинами, но в остальном оказался невредим. Он тихо сел в углу и прижал к рассеченному лбу припарку. Позвали хирурга, и он кетгутом зашил мою рану. Из всех перенесенных мной за тот вечер мучений самыми дьявольскими оказались те, что причинил мне хирург. Мне дали полпинты виски, но даже это, вкупе с тем спиртным, которое я выпил за вечер, не помогло утишить боль. Я ругался на чем свет стоит и скрежетал зубами, когда хирург прокалывал мне кожу и протаскивал сквозь рану кетгут, казавшийся мне длинным и грубым, как корабельный канат. Все это время Фергюсон молча гросидел в своем углу.
Несколько месяцев спустя у нас появилась возможность обсудить то злосчастное происшествие. Именно тогда Фергюсон рассказал мне о своеобразном впечатлении относительно его самости, о возникшем во время избиения мимолетном ощущении, будто он перестал быть самим собой. В течение этих нескольких месяцев я практически не встречался с Фергюсоном, но знал, что он работает над большим философским эссе, озаглавленном «Естественная история человеческой души». Он рассказал мне, что достопамятное избиение послужило для него своего рода откровением, заставив понять, что в действительности душа дана нам в виде способности к ощущению самого себя, такой же, как способность ощущать прикосновение или вкус. Эта способность может быть повреждена, утрачена или сделаться извращенной, обманув своего носителя. Он постарался вообразить, что будет испытывать человек, став «слепым» по отношению к собственной идентичности, наподобие того, как человек слепнет по отношению к свету. Иными словами, Фергюсон попытался представить себе человека, разумного во всех отношениях, но не знающего о своем существовании. Подобным образом незрячий не способен увидеть в зеркале свое отражение. Эта мысль заставила Фергюсона придумать некий персонаж по имени Уильям Макдэйд. В своем эссе (часть которого мне удалось прочесть) Фергюсон рассказывает о своем визите к этому несчастному Макдэйду и о своей долгой дискуссии с ним. Например, он спрашивает Макдэйда, как тот это ощущает, а Макдэйд отвечает, что для него само понятие чувства лишено смысла, ибо предполагает наличие субъекта, который это чувство испытывает. Для Макдэйда любое высказывание может иметь смысл только в том случае, если его можно объективно верифицировать. Будучи спрошенным о том, как ему удается так четко отвечать на вопросы, если он утверждает, что не знает о своем существовании (и даже ищет способ опровергнуть его), Макдэйд предложил аналогию с механическим автоматом, способным говорить и, по видимости, осмысленно пользоваться языком. Тем не менее мы все равно будем считать этот автомат лишенным сознания.
Читать дальше