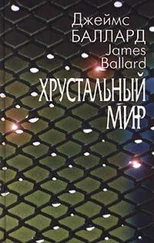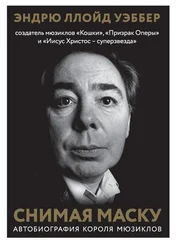Неужели я не говорил Луизе, какое меня охватило счастливое возбуждение и как, увидев Эллен, которая поджидала меня на углу, то и дело поглядывая на часы, я объявил ей о своем великом открытии? Весь вечер я не мог говорить ни о чем другом, потому что для меня все вдруг стало очевидно: люди, которых я искал, никогда не существовали, а «Исповедь» следует считать произведением художественной литературы, не более достоверным, чем «В поисках утраченного времени». Этот тезис я и развиваю в своей книге; он весьма позабавил Дональда Макинтайра и был с ужасом встречен моим руководителем.
— Вы обо всем этом еще прочитаете, — напомнил я Луизе, огорченный тем, что она, по-видимому, не имела понятия о моем знаменитом озарении, в значительной степени определившем мою дальнейшую карьеру. Но поскольку я не знал, о чем еше с ней разговаривать, пока мы пьем кофе, я решил, что можно с тем же успехом вкратце изложить мои доводы.
Пруст написал большой роман о человеке, «которого зовут „Я“, но который не всегда является мною» и которого он лишь единожды называет в романе по имени — Марсель. Пруст проводил дни в комнате, обшитой корковым деревом, а ночи зачастую в борделе для педерастов или находил утешение в странном приборе, называвшемся «театрофон», который давал ему возможность, лежа в постели, слушать по телефону трансляции опер прямо со сцены театра. Марсель, с другой стороны, отдыхал в Ком-бре, влюблялся в Альбертину и надеялся стать писателем. «Я» воплощалось иногда в одном, иногда в другом, а порой, волшебным образом, ни в том, ни в другом. Однако многие читатели считают, что Марсель и Пруст — это одно и то же, и пробираются через роман, воображая, что читают мемуары.
Руссо написал книгу о человеке по имени Жан-Жак, и «я» в этой книге так же расплывчато, как и в книге Пруста. Читатели считали, что в «Юлии» Руссо рассказал об эпизоде из собственной жизни; «Исповедь» была еще более убедительной, хотя в ней встречаются столь же нереальные персонажи, как Альбертина или Бергот. У Пруста вездесущее «я» практически было ширмой, за которой скрывался автор; у Руссо оно было симптомом его помешательства, что становится очевидным в позднее написанных «Диалогах», где характер Руссо обсуждают и анализируют персонажи по имени Руссо и Француз. К тому времени, по моему убеждению, Руссо уже полностью уверовал в то, что во время его пребывания в Монморанси рядом с ним жили два шпиона. Но я доказал, что ничего такого не было.
Когда я это сказал своему руководителю, он скорбно покачал головой. Отрицательный тезис невозможно доказать, напомнил он мне. А что, если некоторое время спустя более дотошный исследователь найдет ранее неизвестный документ, в котором устанавливаются личности реально существовавших Феррана и Минара, чей дом все еще стоит около Монлуи и где ныне, по иронии судьбы, помещается центр изучения Руссо. Кто-то же жил в этом доме.
В таком случае, сказал я своему научному руководителю, а также Дональду, Эллен и теперь Луизе, эти действительно существовавшие жильцы послужили прообразами выдуманных Феррана и Минара — в той же степени, как Юлию можно отождествлять с Софи Д'Удето, а в Альбертине мы видим черты Альфреда Агостинелли. Давно установлено, что Руссо выдумал гигантский заговор, который заставил его бежать из Монморанси; никто не крал бумаг из его донжона, никакие шпионы не следовали за ним по пятам. Руссо предлагает своим читателям составить суждение о заговоре, в котором он сам так и не смог разобраться; этот заговор не что иное, как миф, и любая теория читателя одинаково обоснованна.
К этому времени я поставил чашку с кофе на стол и придвинулся ближе к Луизе. Роман Руссо, объяснял я ей, дает возможность проникнуть в саму природу писательского труда, где фантазия пронизывает реальность. Пруст считал это своей прямой задачей; вспомните хотя бы длинный разговор между Альбертиной и Марселем о Достоевском: это, по сути, трактат, который автор весьма неубедительно заставил произносить своих персонажей вслух и который не играет ни малейшей роли в дальнейшем развитии событий.
— Я не согласна, — сказала Луиза, слегка отодвигаясь. — Мне кажется, что этот эпизод иллюстрирует назойливую любовь Марселя, от которой Альбертина начинает задыхаться и от которой ей хочется убежать.
У Руссо, продолжал я, спор идет о другом. Пруст брал за данность всеобъемлющее значение литературы, Руссо же считал, что всякое искусство пагубно и служит целям развращения. Поэтому он и оказывается перед дилеммой, как написать книгу, которая бы убедительно доказывала вред всех книг без исключения. Рассказчик в этом случае должен в первую очередь признать, что он сам — орудие зла, и Руссо достигает этого с такой же испепеляющей иронией, какую мы находим у Пруста, создавшего персонаж с нормальной сексуальной ориентацией, который осуждает всякое «извращение».
Читать дальше