В этот день Брук не уехал, не уехал он и назавтра, а сел в дилижанс лишь на третий день. Они с Лиззи нашли тихое местечко, чтобы попрощаться. Впервые, а может быть, во второй или третий раз за эту неделю Лиззи проявила какое-то волнение. Каждый вечер они встречались с Бруком при лунном свете. (Брук прожил в городе пятнадцать лет.) В утро отъезда они не смотрели друг на друга и не обменялись почти ни словом.
Когда дилижанс тронулся, Брук оглянулся: Лиззи сидела на кухне у большого окна. Она помахала ему рукой — с какой-то безнадежностью. Рукава у нее были засучены, и ее руки выше локтей показались Бруку удивительно белыми и прекрасными по сравнению с загорелыми кистями. Раньше он этого не замечал. Лицо ее тоже было красивее, чем обычно, но, может быть, оно показалось ему таким из-за игры света и теней в окне.
Он еще раз оглянулся, когда дилижанс поворачивал за угол, и на мгновение увидел, как Лиззи в отчаянии закрыла лицо руками, что совсем было на нее не похоже.
На следующий день вечером Брук приехал в город и, хотя было уже поздно, завернул в какой-то бар.
Говорят, что с тех пор сердце у Лиззи разбито, но ведь люди теперь не очень-то верят таким вещам, как разбитое сердце.
Жена содержателя почтовой станции
В почтовую карету нас набилось не менее дюжины, кто примостился на козлах, кто на задке, а кто прямо на крыше. Среди нас были стригальщики, коммивояжеры, агенты, овцевод, мелкий фермер, неизбежный шутник, и два профессиональных жулика-пилигрима. Мы устали, продрогли и совсем окоченели. Мы так замерзли, что говорить не хотелось, все были раздражены, и любой разговор сразу бы перешел в перепалку. Казалось, прошла целая вечность, а станция, где предстояло сменить лошадей, все не показывалась. За последние два часа нам общими усилиями удалось выжать из нашего возницы лишь невнятное «мили две еще». Потом он дважды повторил, вернее — пробурчал: «Теперь уже недалеко», — и больше из него ничего не удалось выудить; он, казалось, считал, что и так уж наговорил лишнего.
Кучер наш был из тех людей, которые все принимают всерьез и считают любое высказывание, не затрагивающее их непосредственно, не заслуживающим внимания, а если оно обращено к ним, воспринимают его как оскорбление; из тех, кто, забившись в свою раковину, с большой подозрительностью относится к попытке постороннего человека пошутить или посмеяться. Он, казалось, все время был погружен в раздумье. Если одна рука у него бывала свободна, он, сдвинув на нос шляпу, скреб мизинцем в затылке, и челюсть у него отвисала. Но все силы его интеллекта сосредоточивались обычно на ненадежном вальке, плохо пригнанном хомуте либо на том, что гнедой или пегий (справа или слева) натер холку.
Письма и бумаги, которые он должен был доставить по дороге, беспокоили его довольно смутно, но постоянно, — так же, как абстрактные идеи, занимавшие его пассажиров.
Наш шутник, обладавший грубоватым юмором, последние два-три перегона то и дело прохаживался по адресу кучера. Но тот угрюмо отмалчивался. Он был не из тех, кто, получив оскорбление или вообразив, что его оскорбили, говорит об этом прямо и тем самым завоевывает уважение противника и предупреждает недоразумение, которое может привести к вечной вражде. Повстречав вас через много лет, когда вы уже совсем забыли о своем прегрешении — если вы вообще его заметили, — он может неожиданно «двинуть» вас по уху.
А иногда случается, что вы считаете его своим другом, однако он будет стоять рядом и слушать, как незнакомый вам обоим человек нагло лжет вам, стараясь вас одурачить. И хоть он знает, что незнакомец лжет, он нипочем не предостережет вас. Ему это никогда и в голову не придет. Ведь это его не касается — так, какая-то абстрактная проблема.
Сумерки сгущались, становилось все холоднее. Пошел дождь — словно ледяной юг начал плевать на наши лица, шеи и руки, а ноги уже стали громадными, как у верблюда, совсем онемели, и мы с тем же успехом могли бы пытаться согреть деревяшки, стуча ими по полу. Но зато пальцы не скрючивались и не ныли, и мы не чувствовали, как болят мозоли.
Мы жадно искали глазами признаки станции, где предстояло сменить лошадей, — расчищенный участок, изгородь или огонек, — но вокруг была сплошная темь. Длинную прямую, проложенную в зарослях дорогу больше не скрашивало неверное пятно света там, далеко впереди, где окаймлявшая дорогу лента леса смыкалась с небом, — мы ехали теперь по низине.
Нашему воображению рисовалось пристанище, где мы отдохнем, — снаружи в морозной дымке мерцает фонарь, а в уютном баре ярко пылает очаг, и длинный стол накрыт к ужину. Но Австралия — страна противоречий, и здесь все бывает наоборот. Придорожные трактиры всегда объявляются неожиданно и в самых неподходящих местах; в баре, как правило, все готово для настоящего банкета, если вы не голодны или спешите, а когда вы голодны и не спешите, в нем темно и холодно, как в могиле.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
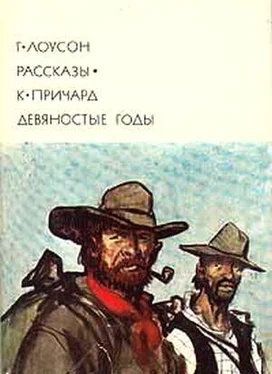



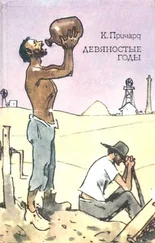


![Генри Олди - Рассказы ночной стражи [litres]](/books/395174/genri-oldi-rasskazy-nochnoj-strazhi-litres-thumb.webp)


