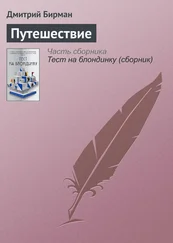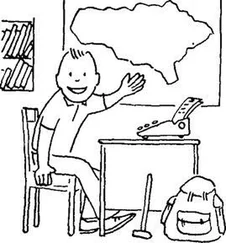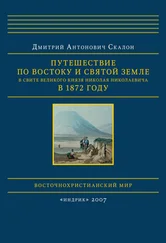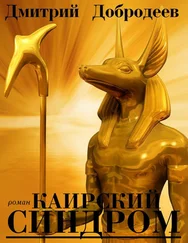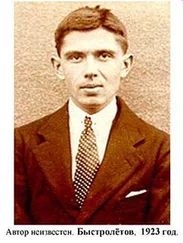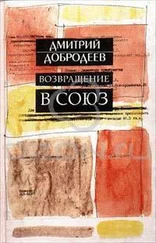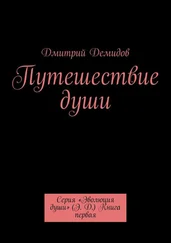Когда чума 1656 года
Опустошила Неаполь,
Много прекрасных особняков
Осталось просто так.
Маэстро Атаназио ехал вечером
Куда глаза глядят.
Увидел виллу Квазио
И обомлел:
Дом был пуст, золотист,
В лучах заходящего солнца
Глух и нем.
Плющ обвивал сквозные галереи.
Кузина Флора здесь играла,
Юная краса.
Теперь же вся семья навеки залегла
В семейном склепе.
— Что вы читаете, Петр Дмитриевич? — она вошла незаметно.
— Да вот какого-то Рапт-Юговского нашел. Странный поэт. Какие новости?
— Сегодня вечером. Велено из дома не выходить.
— Да. Так лучше.
— Вы голодны?
— Нет-нет. А вы возьмите в котомке — немного хлеба, сала. Мне не нужно.
— Вам постелить?
— Позже. Знаете, я хотел бы еще чего-нибудь Рапт-Юговского.
— Сейчас, Петр Дмитриевич, я поищу. Подвиньте, пожалуйста, стремянку!
— Странно, — продолжила она, — отсюда, сверху, я вижу московские улицы в новой перспективе. Октябрьский день, как будто ничего не изменилось… ах, я шатаюсь… подержите стремянку!
— Милая, милая Синьорита Николавна. — И, встав на цыпочки, он поцеловал ее подол.
Нечаянное головокруженье, память чувств, они не удержались и прилегли на оттоманке, не в силах.
— Вы знаете…
— Да.
— Я… И все же… людская грубость. Месяц назад сюда ворвались матросы и здесь, в кабинете отца, надругались надо мной…
— Ну что вы, что вы, Синьорита Николавна, — приговаривал он, держа ее за тонкую талию, — ну как вы, что вы…
Та всхлипывала, теребила крестик.
Весь остаток дня они лежали и вспоминали: Москву веселую и грустную, жизнь ушедшую. Чаепития, разговоры, надежды. Масленицу, Пасху, святцы… что было и что уже не вернешь.
Время прошло незаметно. В шесть вечера Еремин встал, поцеловал Генриэтту Николавну и начал приводить себя в форму. В шесть тридцать в дверь постучали. Еремин вздрогнул. Это был он, изменившийся, поседевший полковник Елдасов. Некогда жуир и картежник, он спал с лица, нос заострился. В нелепом тулупе, без усов, он работал, очевидно, под дворника.
— Здравствуйте, милостисдарь, — молвил он, подойдя к Еремину, заглянул ему в глаза. — Какими судьбами в нашем злосчастном царстве?
— Вызвался добровольно.
— Ну и… надолго?
— На одни сутки. Вот вам пакет.
— Спасибо. А вот вам — свеженькое. Передайте генералу Деникину лично.
— Что это? Извините, мне велено запомнить.
— Телеграмма Ленина в РВСР. От 22 октября. Читайте!
— Покончить с Деникиным (именно покончить — добить) нам дьявольски важно. Надо кончить с Деникиным скоро, тогда мы повернем все против Юденича. Пора окончательно раздавить так называемых добровольцев — помещичьих сынков, наемных бандитов и другую сволочь.
— Вы поняли, поручик?
— Все понял.
— И ваше впечатление?
— Впечатление сильное.
— А Москва?
— Да…
— Оно, впрочем, естественно. Тут и слепой увидит, и немой заговорит.
— Я чувствовал заранее, но…
— Не надо чувствовать заранее, не надо предполагать. Слов не надо. Надо просто быть. И тогда откроются перед вами… эх, ну да что там.
— Полковник… Анатолий Михалыч, пойдемте со мной! Вам здесь нельзя оставаться.
— Можно, — резюмировал полковник Елдасов, — ибо не так все страшно. Главное — правильно видеть. Европеец — он видит мир-схему, мир-объект. Но русский — он видит мир, с которым совладать нельзя: мир-крест. Чего уж там? Вот почему мы говорим о могучем дыхании космоса на просторах глубинной России. Кто это познал, тот полюбил эту землю за великие… как это сказать, святости и безобразия. Хватит об этом! Никуда я не пойду! Я провел в Париже полвойны, я понял, я лучше сгину здесь, чем сосать аперитив на Монмартре.
— Полковник, вы, вы, вы… — Еремин задохнулся от внезапного и выглянул в окно перевести дух: две одинокие собаки бегали по двору. Октябрьская трава торчала здесь и там зелеными клочками, и всюду: на брусчатке, на траве и на голой почве — лежали светло-желтые листья. Тут же стоял красногвардеец с винтовкой и дышал в ладони.
— Кажись, попались, — слабо улыбнулся Еремин. В дверь стали ломиться.
— Бегите, поручик! — Полковник поднатужился, припер дверь. — Не забудьте пакет! — Раздался выстрел. — Тело ты неприкаянное, тело мое, — охнул полковник, держась за бок.
— Убрать контру! — сказал вошедший комиссар Оглобиньш — громадный, лысый, в кожаном реглане.
Еремин был уже далеко: выскочив в окно, он скакал по крышам. Московские кровли издавали скрежещущий звук.
Читать дальше