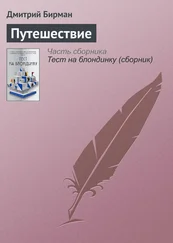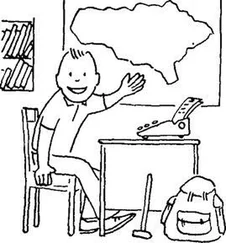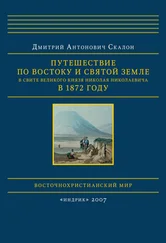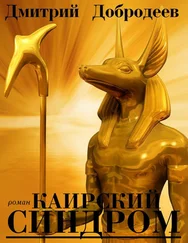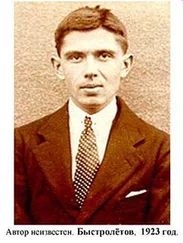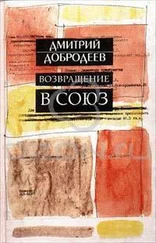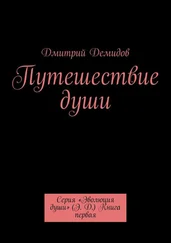— Эй, декаденты!! Скажите, ведь были ведь у нас — Толстой и Достоевский, Суриков и Репин, Жуковский и Королев! — В ответ ни слова. Лишь Федя-джазмен сопя подполз и попытался достать бутылку из вытянутой вверх руки Воскресенского. Когда не получилось, он так же сопя уполз в свой угол и там затих.
— А ну вас к лешему! — Воскресенский плюнул, махнул рукой и выпил бутылку сам. Ровными глю-глю-глю улеглася водка в луженой глотке литературоведа. И сразу стало ясно: кто есть ху.
Занюхав рукавом видавшей виды бекеши, он вышел вон. Дверь в коридоре туго поддавалась. Дверь, покрытая столетней драной кожей, из-под которой торчали клочки прогнившего ватина. Однако поднапер плечом и со второго удара вышиб проход.
Он брякнулся о снег, поднял глаза, зажмурился от света прожекторов: «Ну, здравствуйте, степные волки!»
Степные волки встретили его дружным «Хай живе!»
От ранее неведомого чувства захотел отлить. Он встал у столба, поднатужился: струя взметнулась искрометным фонтаном брызг. Раздался тихий хрустальный звон: переливаясь всеми цветами радуги, льдышки оседали на белый наст. Он плюнул: плевок застыл в полете.
— Чего тут шляешься? — извечный вертухай на вышке направил на него свой автомат. — А ну, пошел в барак! Чего, не хочешь? — дал очередь на всякий случай. Узором вышитым легла она в снегу.
Вороны взлетели в воздух: «Кар-кар!»
Воскресенский понял намек и потрусил рысцой. Мороз за минус 50.
Луна залила мертвым светом пространство зоны: бараки, проволоку, снег.
В бараке — ни зги. Его обдало смрадом и непривычной парфюмерией. Когда глаза привыкли к темноте, увидел — сплошные нары, с которых свисали сотни белых женских ног.
— Куда я, что? — но тут к чему приблизились высокая, с короткой стрижкой, и предложила: «На, закури!» Он закурил и поперхнулся: ее рука скользнула по его груди. Могучей, выпирающей распертыми сосцами. Вторым движением она скользнула ему в подштаники и обхватила хохолок: «Откуда ты, красавица?»
Он попытался что-то вякнуть, однако горячий поцелуй лишил его дыханья. Под одобрительные возгласы товарок девица-кавалер сняла с него бекешу, положила поперек полати и намазала губы. С великим изумленьем Воскресенский обнаружил: он — баба! Девица-кавалер достала сосновый прибор, привесила на бедра и обратилась к нему на ноте глубокой страсти: «Ты слышишь, Нюрка? Ты слышишь, зараза незабвенная моя? Ведь если ты меня предашь, то я сперва тебя, потом себя и — точка!» — с этими словами она ввела деревянный фалл в растопыренные губы подруги.
В мордовском лагере мела поземка, болтались фонари и вертухай на вышке ежился, поднявши воротник. В бараке номер пять все было иначе. Здесь разыгрывалась извечная драма гомосекса.
Мюнхен, 1991
Она была — высокая, костлявая стерлядка… острижена под бобрик, зараза-феминистка… с таким же стриженым лобком и плоской грудью. Отставив кряжистую ногу, лакала портяшок, баском вещала про чакры йога Сакьямурты и биополе Билла Грэма.
— Какой щас час, ты, сука феминицкая?
— 5.40. Утра. Ноябрьского. 92-го года от Рождества Христова.
В ее убогой комнатушке на Сретенке — на маленьком горбатом топчане он ставил ее в разные позы, передвигая эти плохо бритые оглобли-ноги и наслаждаясь муторным падением в Ничто.
Священник Феликс глядел на сей кульбит с обшарпанной стены.
Потом разлили еще портвейна: хорошо! Дрянное пойло пронизало тело, и он созрел для прочих действий. Как всякий пост-койтумный животный, он был невесел, но упрям.
Он бросил ее там, на топчане, Аделаиду Л., и поспешил на проповедь Б. Грэма, на стадионе в Лужниках… Магическая сила!
Все расстояние от метро «Спортивная» до стадиона было усеяно обрывками воззваний: покайтесь, в Бога душу, и т. д. Громадный лысый Грэм, воздевши руки к небу, вещал с плакатов: «Ну что же вы, ребята…»
Вбежал в спортивную арену… темно и пусто. Вернее, глухо, как в танке. Плакаты Грэма, окурки и плевки… Он понял, что опоздал маленько. На целых шесть часов. Лет на пятьсот. И призадумался: «Чево я, право? Чево это за место?»
Когда-то он полагал, что все, что здесь, — эксперимент нечистой силы: над духом, над свободой воли. Потом решил, что все в порядке. Все хорошо.
И вот теперь увидел, что здесь проходит изотерма января — граница крайне вредных сил… Россия-с.
— Слы, парень? Ты слы? — горбатый алкоголик дядя Ваня приблизился на слабых ножках. В ущербном лунном свете достал мензурку, дал отхлебнуть. Тогда он увидал: опасную черту над городом. Светящуюся, точно хвост кометы. С нее слетали искры и опадали черным пеплом. В последней предрассветной тишине.
Читать дальше