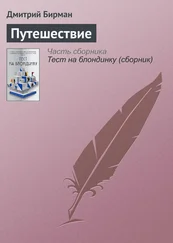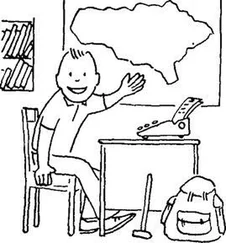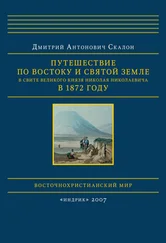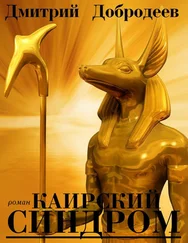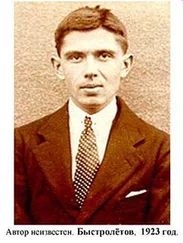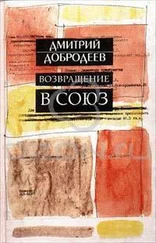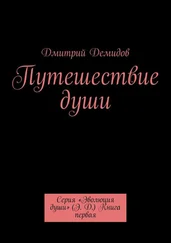Чокнулись, выпили. На часах было 16.30. Экскурсия в Загорск подходила к концу.
— У вас есть водка в Гамбурге?
Хельга молчала.
— Ты что такая неживая?
Хельга молчала. Что-то наподобие горькой усмешки собралось на ее лице. Детско-старческое выражение.
— Ты слышишь, что я говорю? Шайсе!
Хельга подняла глаза. В них были слезы. Западная немка на пороге зрелых лет. Ровесница.
Копылов понял, что перегнул палку. И начал краткую исповедь:
«Я родился в Москве, в 1950-м, в коммуналке, в кротовой норе.
Обломки России и новый, бездушный мастодонт. Маленький косолапенький мальчик: ясли, детский сад, школа. Октябренок, пионер, комсомол. Жизнь тягучая, бездумная, рябая. Будто смерть на пороге…»
— Зачем думать о смерти, либлинг? Лучше жить и работать!
— А еще лучше работать и жить.
— Генау!
— Ты придерживаешься верхнесреднего деления социал-демократической ориентации, а я — крайней боковой доски на крышке гроба, — хотел сказать он, но не мог перевести. Хотел сказать, но сдержался. И без того она была на грани истерики.
Вместо этого он принял павианью позу и произнес:
— Мы — татарский субконтинент. Мощные азиатские ветры заходят сюда в гости. Они несут сумятицу в мозги. Постоянную идею смерти и разрушения. О стабильности не может идти речь.
Хельга хрустнула яблоком: аугуст-апфель.
Посмотрела в окно:
— Альтвайбзоммер.
Поедем в Хамбурхь?
— Я не зна, я не вер, не про-да… Что Гамбург? Здесь — в теплом, родном хлеву, а там — в разумном, прибранном свинарнике.
Так и закончилась эта необычная история любви. На многоточиях, на приподнятых бровях. Вернулись в Москву, формально раскланялись, а на следующий день повез он Хельгу в аэропорт.
Сдали багаж, встали супротив друг друга.
— Ну прощай, Хельга! — молвил он. — Век тебя не забуду.
— И ты прощай, мой русский либхабер!
Повернулась и пошла за загородку, рукой махнула.
Копылов ощутил внезапную пустоту. Вздохнул и поковылял прочь.
Москва, 1984
Они были — две молодые, две пригожие крали, две путаны: Таня и Оля. Обеих носило по кабакам, по валют-барам и прочим закрытым точкам. Бывало, поутру, намылены, наряжены звонили Толику — знакомому таксисту. Выскакивали из кривой хрущобы, в помятой «Волге» мчали по ухабам Бескудникова — в центр.
В коопкафе «Садко», что на Кропоткинской, им ставили икру, шампанское. Обед — 250, 50 — официанту, и далее — в «Кудесницу» на Оружейном. Там — мяли им бока, тянули жилы, умасливали польским молочком. Оттуда выходили свежие, румяные, готовые к дальнейшим перестрелкам.
Вот «Хаммеровский центр», подобие Америки, построенное на заре 80-х. Проход — 50 рублей: сплошные мусора, чекисты, спекулянты. Минуя все препоны, они в валютном баре «Сакура». Сосед по стойке — японец в золотых очках — пьет минералку.
Торг начинается. — 100! — говорит японец. — Нет, 200 зеленых! — Да почему? — Да потому! 50 отстегивается коридорной. Ты понял, котенок? — Котенок понял.
Спустя минут пятнацать одна из них на пятом этаже. Отстегивает горничной, идет в 59-й. Стучится в номер.
Котенок ждет. Он в шелковом халате с Фудзиямой. Лицо сияет. Она готова. Котенок распахнул халат: широкий шрам на левой стороне и маленький моторчик над соском.
— Что это, сердце?
— Да. Операция. Япония. Хоккайдо.
Котенок ложится: «Ты сверху, я не могу усилий». Танюша глухо матерится: «Котенок-инвалид!» Все длится 5 минут.
На выходе Танюшу с Олей тормозят. Угрюмые, усталые ребята: «Давайте к администратору!» — «Ну сколько можно?» — «А ну не возражай!»
Под бюстом Ильича сидит веселый капитан. Он пишет сводку очередного рейда: «Ну что, девчата, попались?»
— Да вы чего, да мы…
— Вот протокол! Ставь подпись, вытряхивайте сумочки.
— На столике — пакет презервативов, жвачка, брелки и сахарин.
— А деньги где? Валюта?
— Чего?
— Ну ладно. Живенько в диспансер. Проверьтесь, девочки!
В холодном особняке на Чехова. Плакат: «Случайным половым контактам — плотную преграду!» — Мохнатый лаборант звенит иглой в кювете: «Давай!» — «Не одноразовый?» — «Ничо, прокипятил». Густая кровь сползает в ампулу. Они хватают норковые шубы и на улицу.
На улице — 12 ночи. Ни зги. Поземка. Такси нема. Проходит бородатый, в бекеше и очках: «Я — Вася Цимбалист, художник по призванию. Живу в мансарде. Айда ко мне!»
Поднялись на тягучем лифте на 7-й. Оттуда — еще виток по лестнице. Дверь распахнулась: сплошные Ильичи — из меди, гипса, камня. Дзержинские, Устиновы, Свердловы. Красноармейские фуражки, значки ударников, переходящие флажки и вымпелы. Обложки партийных документов и прочая.
Читать дальше