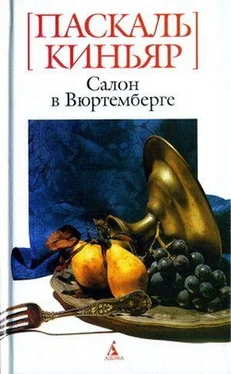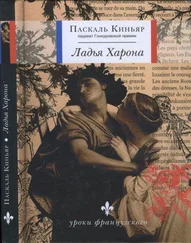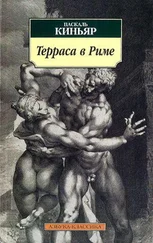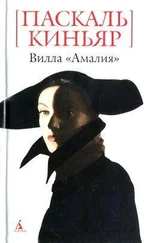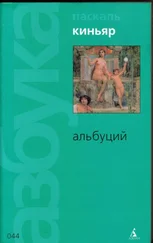В ноябре 1967 года я выходил из школы на улице Пуатье; лил дождь. Я раскланялся – с бесконечно китайскими, бесконечно грустными, бесконечно медленными и бесконечно учтивыми церемониями – с мадам де Кропуа и мадемуазель Лезур. Распрощавшись с ними, я вошел в табачную лавку на Университетской улице, купил сигареты – мне хотелось курить и хотелось выпить, – заказал у стойки рюмку бургундского.
«Мюнхгаузен, – вдруг сказал я себе, словно обращаясь к кому-то другому, – тебе нужно из этого выбираться!»
Тут я обнаружил, что рядом никого нет. Я стал гадать, у кого бы попросить совета. Древние египтяне советовались с быком Аписом. Сам я некогда советовался с псом Понтием или с кошкой Дидоной, и их предсказания всегда оказывались верными, хотя и чуточку льстивыми. Еще у меня была тогда мадемуазель Обье. И Сенесе – но теперь, конечно, к ним уже не обратишься. Впрочем, разве не был я одинок всегда и везде? И разве одиночество не прекрасно? Костекер любил мужчин, произведения искусства, отсутствие сентиментальности и жестокие, тайные, безмолвные забавы, но при этом был еще более одинок. Эгберт Хемингос подыхал от страха в своей огромной квартире на улице д'Агессо. Может, снова завести кошку? У меня дома на набережной Турнель, в кабинете на втором этаже, среди нескольких гравюр Козенса и Гиртина, оставшихся от матери, лежал портрет Виланда [78] 1 Виланд Кристоф Мартин (1733–1813) – немецкий поэт и романист. Родился в Оберхольцхейме (Швабия), рядом с Биберахом.
кисти Гейнсиуса, вернее, гравюра, сделанная с этого портрета. Он был мне как отец. Я выучил немецкий по «Мюнхгаузену» Лихтенберга и по Виланду. Бергхейм был для меня Биберахом. Этот призыв властно звучал во мне. Нужно было срочно увидеться с Люизой среди деревьев, на втором этаже дома по Конрад-Аденауэр-штрассе. На самом же деле я встретился не с ней, а с Маргой, и случилось это четырьмя месяцами позже, в апреле 1968 года, когда я вернулся из Соединенных Штатов и мы с Маргой поехали под дождем, в ее роскошном белом «мерседесе», в Биберах, а вернее, в Оберхольцхейм, и там ввалились, промокшие до нитки, в дом священника. И я впервые в жизни увидел тот сад вокруг дома, где Виланд, вставая до рассвета, ложась за полночь, работал под сенью столетних лип – среди лип, в тот день залитых дождем, тех самых лип, которые в момент нашего появления каким-то непостижимым чудом вдруг озарило солнце, хотя дождь не утихал. А потом мы с Маргой укрылись – уже в самом Биберахе – в какой-то жарко нагретой, мерзкой кондитерской, где даже стены казались обмазанными сливочным кремом.
Я вернулся в Париж 24 апреля 1968 года. Тот факт, что я сохранил все свои записные книжки, доставляет мне невыразимое удовольствие: когда я листаю страницы этих блокнотиков в шершавых темно-красных – почти как епископcкая мантия кожаных переплетах, у меня возникает чувство, будто я вытаскиваю из морских глубин – не то в сетях, не то в сачке, не то на крючках всевозможных конфигураций – добычу волшебной рыбной ловли, волшебной в моих глазах, ибо она, эта добыча, сохраняет свежесть, иными словами, все еще жива, все еще пляшет в руках рыболова. Верно и то, что любители воспоминаний, а также большинство пустомель тешатся забавами, которых, говоря по чести, следовало бы стыдиться. Когда я переворачиваю страницу и вижу дату – 3 мая 1968 года, – я и в самом деле заливаюсь краской, такой багровой краской, что вполне могу соперничать с раком, причем с вареным раком, которого сам же и выловил. Я выходил из дома мадам де Кропуа, где ужинал в обществе мадам Клеманс Вере, Бенуа, Надежды Лев и мадемуазель Лезур. Я никогда не относил себя к разряду роковых соблазнителей. Мадам де Кропуа жила на улице Верней, в двух шагах от Международной музыкальной школы. Когда-то мы с сестрами устраивали соревнования: кому попадется больше двойных ядрышек в миндале, и, как бы я ни старался, они всегда выигрывали. Или, например, я изо всех сил боролся со сном, чтобы встать раньше всех, но в конечном счете незаметно для себя погружался в дрему, а они прыгали ко мне на постель, вопя во весь голос: «Vielliebchen!» [79] Драгоценный ты наш! (нем.)
Так что и в этой игре мне никогда не везло.
За столом я скучал. Часам к одиннадцати я поднялся и сказал, что мне пора домой, шепотом объяснив хозяйке дома, что завтра должен рано вставать; впрочем, мадам де Кропуа давно привыкла к этой моей причуде. Я обошел гостей, пожимая руки. Надежда Лев – в то время уже знаменитая певица – сидела с надменно-ледяным видом; за весь вечер она ни разу не раскрыла рта и только беспокойно поглядывала на себя в зеркала, словно проверяя, все ли у нее в порядке с внешностью; она воспользовалась моим уходом, чтобы также встать из-за стола. Мы оба распрощались с присутствующими и вышли. На площадке у лифта она, даже не взглянув в мою сторону, высокомерно протянула мне руку для поцелуя. Я не стал садиться в лифт и спустился по лестнице. Выйдя во двор дома, я увидел силуэт певицы у двери, ведущей на улицу. Я замедлил шаг. Потом отворил высокую тяжелую дверь, выходившую на улицу Верней, и потянул ее на себя, чтобы закрыть. Вдруг я почувствовал, что рядом кто-то стоит. Женская рука легла на мое плечо, вернее, сжала его. Это была Надежда Лев; она сказала звучным голосом, со свойственным ей акцентом – я бы назвал его интернациональным, то есть абсолютно искусственным: «Дорогой друг, я иду с вами». Я ответил: «О, буду очень рад!»
Читать дальше