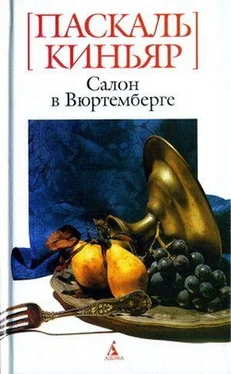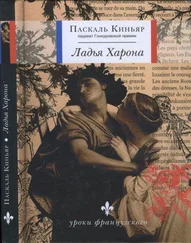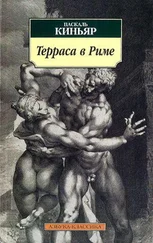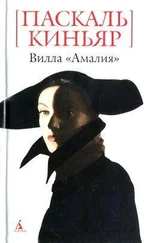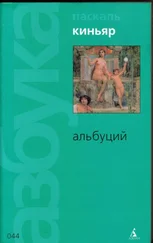И они принялись собирать на берегу круглую серую блестящую гальку. Потом старательно обтерли ее. «Маркус, гляди, как надо бросать!» – сказала сестра. Пригнувшись, она широким взмахом руки запустила в воду плоский камешек.
Маленький серый диск произвел не меньше десяти рикошетов и канул в озеро. «Делай как я», – скомандовала Марга сыну, и он стал подражать жесту матери. «Вот это и есть смерть, – сказала она, и я с удивлением поймал себя на том, что снова кашляю. – Пока он рикошетит, пока прыгает на поверхности озера, он жив. А когда исчезает, и его больше не видно, и круги на воде уже разошлись, и неизвестно, существовал ли он вообще, – это и называется смертью». Малыш Маркус вполне освоил запуск камешков и громко вопил от восторга. А я размышлял о своей жизни. И находил, что число рикошетов, которые подарило мне желание, слишком уж скромно. Мне очень не понравилось это сравнение с «блинами». В нем крылось что-то безжалостно-тоскливое: все зависело от того, под каким углом камешек первый раз ударится об воду, а дальше – сплошные повторы, ничего, кроме повторов.
В довершение несчастий через день или два я ухитрился сломать левую ногу. Это случилось на горном склоне, где лыжников было раз-два и обчелся. И пока я лежал в полном одиночестве на снегу, в ожидании подмоги, мне вспомнился один запах – запах ломких и пыльных эвкалиптовых листьев, которые кипятили в кастрюльке с водой в темно-синей фаянсовой печке, когда я заболевал. Отвар шумно булькал в кастрюле, испуская зловонные пары, прочно связанные в моем сознании с горячечным бредом, мокрым от пота лицом и, конечно, с тайной причиной моей ненависти к английским сигаретам – острой, но нерегулярной, ибо повод для нее возникал не слишком часто.
Как правило, я предоставлял женщинам, с которыми мне случалось иногда жить вместе, гостиную – просторную комнату с черно-красным плиточным полом, – а сам вставал пораньше и шел на второй этаж, чтобы не упустить самый яркий свет, сияние нового дня. В глубине гостиной стояла квадратная софа, вернее, большой тюфяк, лежавший на деревянном, гораздо более широком основании. Имелись там и кресла – всевозможных видов, размеров и стилей. Из трех окон открывался вид на набережную. Напротив гостиной была кухня.
Окна репетиционной комнаты второго этажа были обращены на север, а маленький кабинет смотрел на восток: это позволяло максимально использовать дневной свет и скрыть от глаз прохожих мою коллекцию барочных виолончелей и гамб. Окошечко ванной, расположенной над кухней первого этажа, выходило на улицу Понтуаз. К десяти часам утра солнце или, по крайней мере, отдельные его лучи пробирались в спальню, и волна света заливала красные и черные плитки, отчего все они казались светлыми.
В один апрельский день 1972 года, только-только вернувшись из бернских Альп, я «нашел золото инков». Это случилось сияющим, солнечным днем, – я же встал сердитый и мрачный, со все еще загипсованной левой ногой; в ту пору я жил один. Было около пяти часов утра. Я чувствовал себя виноватым в том, что потерял столько времени в праздности, не сумел запустить должное число «блинов» по воде Тунского озера. У меня постоянно свербит в горле, словно там застрял кусочек яблока «ранет», которое Ева преподнесла Адаму и которое он не смог проглотить: с той поры, со времен жизни в Эдеме, каждый раз, стоит нам закашляться, мы виновато вспоминаем об этом событии, особенно если маемся ангиной или тоской; итак, у меня постоянно свербит в горле от детского убеждения, что, лишая себя созерцания мира, теряешь мир, а то, что дарит видение мира или его подобие, зовется богом, зовется солнцем, зовется богом по имени солнечный (или воскресный) день, Sonntag. Так готов ли я приносить человеческие жертвы этому идолу, как полагалось в империи ацтеков? Думаю, я бы поддался этому искушению и, поразмыслив, охотно бросил парочку-другую знакомых жариться голышом на адском огне, выбрав сковороду побольше, на каких готовят паэлью, дабы принести жертву моему богу. И уверяю вас, такое зрелище не вызвало бы слишком большого отвращения. Так вот, именно в тот солнечный, сияющий день мне, праздному и мрачному, судьба даровала совершенно невероятный телефонный звонок. Я сидел на втором этаже и был вынужден спуститься на первый, опираясь на костыль и кряхтя от боли в ноге. Я держал в руке черную эбонитовую трубку, а в глазах моих плясали волшебные видения: мне преподнесли золотой клад на серебряном блюде. Я постарался скрыть ликование и начал для виду торговаться, поднимать цену. Но какова бы она ни была и к чему бы мы ни пришли, впервые в жизни я стал по-настоящему богат. Несколько лет назад – правда, я не хотел говорить здесь о музыке, говорить о сердце без голоса, о немом, но звучащем сердце – я разыскал в серых шкафах зала муниципального совета, в мэрии городка Нофль-сюр-Мульдр «Скорбные, Ужасающие и Вдохновенные Сюиты, сочинение господина де Сент-Коломб». «Месье, перед вами восточная секция городских архивов Нофль-сюр-Мульдр!» – сказал мне на полном серьезе учитель, показав два железных шкафа и медленно перебирая ключи на связке в поисках нужного. Найденные материалы я опубликовал в нью-йоркском издательстве «Schimm's Library», а несколько сюит исполнил на публике, правда без особого успеха.
Читать дальше