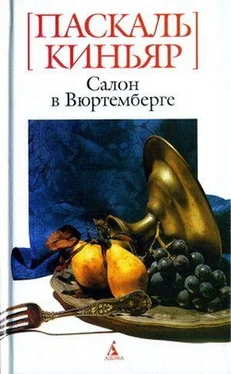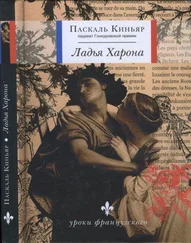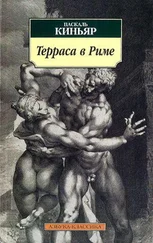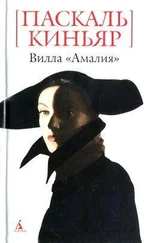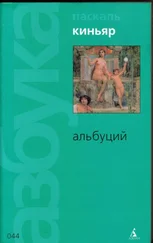И наконец, я вспоминал о ее нежной любви к цветам, которую она передала мне. Может быть, я даже обязан ей особым отношением к тюльпанам. С тех пор я всегда раз в два-три дня приношу домой букет цветов. Это ведь тоже свидетельства дружбы, и в том факте, что мы по собственному почину делаем себе подарки, наверняка есть нечто разумное и естественное. Мне кажется, они призваны поддерживать наше самоуважение, хотя это требует большого усердия и предполагает хотя бы минимальное владение искусством фокуса. Я всегда обожал и доселе обожаю покупать вазы – слегка старомодные, отнюдь не блистающие безупречным стилем, а то и попросту нелепые, заранее предвкушая, какой радушный прием окажу им у себя дома. В отличие от животных растения не обладают нервной системой, – прошу прощения за столь банальную истину. Вследствие этого они стоят выше нас на лестнице божьих созданий. Некоторые особо меланхоличные люди не могут смотреть на растения без слез.
Не знаю почему, но смерть мадемуазель Обье совпала с самым мрачным периодом моей жизни. Все меня угнетало. Я отдалялся от наиболее светских, наиболее празднословных друзей. Перестал даже видеться со своей сестрой Элизабет (примерно раз в два месяца она приезжала из Кана в Париж и останавливалась в своей роскошно обставленной двухкомнатной квартире на улице Сен-Доминик, которая не шла ни в какое сравнение со студией, принадлежавшей нам, всем пятерым, в Штутгарте), не в силах выносить ее нескончаемые рассуждения о красоте, науке, обществе, воспитании, психоанализе, политике, Боге, цивилизации, любви, – слоном, обо всем на свете.
Какой-то злобный бог – да и бывают ли добрые боги?! – весьма похожий на гладиатора (я всегда терпеть не мог римлян!), набросил на меня свою сеть, не удостоив даже пронзить мне горло трезубцем, и протаскал по арене энное количество месяцев. Я был для него мирмиллоном, [73] Мирмиллон – гладиатор, который должен был сражаться с ретиарием, вооруженным сетью и трезубцем.
иными словами, противником, увешанным громоздкими доспехами, с тяжелым щитом в руке и в шлеме с забралом, а следовательно, заранее обреченным на гибель. В то время я изредка встречался с Катариной Убманн – когда она приезжала в Париж. Я страдал до потери рассудка. У мужчин есть внизу живота некий орган, как бы подвешенный к примитивному подобию вешалки; он свободно болтается на ней, точно одежка на гвозде, которая, стоит открыть дверь или окно, вздувается подобно парусу на ворвавшемся незваном сквозняке.
Мне только-только исполнилось двадцать четыре года. Я был еще совсем ребенком. Дети и подростки не понимают, что страдание долго не длится, – конечно, при условии, что вы сами не подпитываете его, находя в этом горькое удовольствие. Моя сестра Лизбет вознамерилась потащить меня к урологу, к неврологу, к монаху дзен-буддисту. Да я и впрямь был совсем плох. Я работал непрерывно, день и ночь, – но пребывая в состоянии острой депрессии, одурев от лекарств и от желания умереть, умереть во что бы то ни стало. Я был Иовом. Я подходил к пределам Аравии и страны Едома. [74] «И сказал Исав Иакову: дай мне поесть… красного этого… От сего дано ему прозвище: Едом» (на древнееврейском языке – рыжий). (Бытие, 25, 30.)
«Зачем приняли меня колени, зачем было мне сосать сосцы?» [75] Книга Иова, 3, 12.
Но мне никто не давал «сосать сосцы». Да и принимали ли меня чьи-нибудь колени?! Если можно было бы положить на весы все мои боли, все боли, что терзали все члены моего тела, они перевесили бы весь песок со дна морского.
Катарина мучила меня так же, как Лизбет. Она требовала, чтобы я лечился. Чтобы я чем-нибудь занял руки.
«Карл, необходимо содрать обои в спальне и все перекрасить. И еще привести в порядок прихожую. И еще необходимо…»
Но мне все обрыдло. Я так страстно желал ее отъезда, что даже намекал ей на это. Я окончательно лишился сна из-за желания уснуть, из-за желания умереть. Говорят – и в это нетрудно поверить, – что воспоминание о несовершенном поступке ищет себе утешение и оправдание в подобии смерти, в дурманном забытьи. По крайней мере, несбывшееся желание слепо нащупывает опору в энергии, которая все еще питает его, не перестает тревожить. Долгие месяцы я лежал по ночам без сна, ловя широко открытыми глазами длинные лучи света, – их отбрасывали фары машин, проносившихся по набережной. Это стало моим основным занятием – пожалуй, единственным, представлявшим для меня хоть какой-то интерес. Узкие желтые конусы проникали в щели ставней, поверх деревянного карниза с желтыми бархатными портьерами и неспешно скользили по потолку взад-вперед, как маятник гигантского метронома. Эти лучи освещали комнату не так долго, чтобы можно было явственно определить контуры предметов в полумраке, но гасли не так быстро, чтобы, исчезнув, каждый раз не создать впечатления, будто вся комната погружается в смерть.
Читать дальше