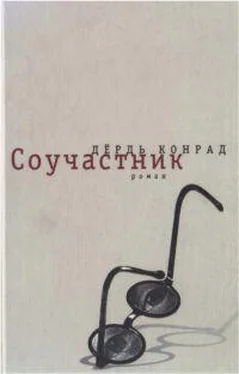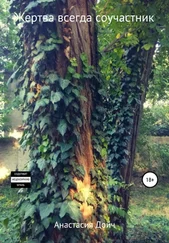В 1958 году, в ничем не приметное осеннее воскресенье, когда окно камеры было уже закрыто и я заканчивал свои из шести шагов состоящие маршруты между дверью, обитой железом, и окном, забранным решеткой, чтобы затем, прислонившись лбом к проволочной сетке, закрывающей радиатор отопления, стоять часами, закрыв глаза и оживляя в памяти одну и ту же фотографию, мысленно продолжая и продолжая едва намеченное движение женской фигурки, пока мысль не устанет и не вернется в недвижность маленького любительского снимка, на котором она сидит на кирпичной ограде какого-то заброшенного дачного участка, и затем я в воображении своем порхал вокруг жены, когда она шла по улице в лавку, похлопывая себя пустой сеткой по стройной ноге и слегка покачивая бедрами, словно спускалась по горной тропинке, — в этот момент в коридоре вдруг загремели сапоги и в открывшуюся дверь вошел лейтенант охраны в сопровождении трех сержантов. «А ну-ка, покажи член». Интересующая его часть моего тела скукожилась от страха. «Не бойся, не откусим». Того, кто подошел ко мне первым, я пнул что есть сил, потом и я бил их, и они били меня, кого-то я укусил за руку, когда забился в угол, держа штаны; в конце концов один из них оказался у меня за спиной и дубинкой врезал мне по затылку. Я упал лицом вниз, мне скрутили руки и надели наручники. После этого стащили с меня штаны и осмотрели то, что было объектом сражения. «Все в порядке», — отдувался лейтенант, садясь на соседние нары. Все они были в синяках. «Ну, вот и все, видите? Было из-за чего колошматить друг друга? Конечно, каждый свой член бережет. Вы что, думаете, я полюбоваться им хотел, что ли?» Мы смотрели друг на друга, как подравшиеся одноклассники, которые стали даже немного симпатизировать друг другу, взаимно оценив проявленное упорство; ему и в голову не пришло меня наказать. «Могли бы вы объяснить, зачем вам это надо?» — возмутился я. «Если бы мог, объяснил», — ответил он загадочно и двинулся в следующую камеру. На другой день меня отвели в больничное отделение, где врачом был мой школьный товарищ. На двери одной из камер, выходящей в коридор, висела табличка: «Вход строго запрещен даже для охраны». Перед дверью стоял надзиратель с автоматом. Лишь спустя неделю врач по секрету сообщил мне: в камере умирает Габор. Собственными скрученными волосами он перевязал себе член, чтобы удержать мочу; последствия искусственной уремии были замечены только на третий день. «Тебе-то я могу рассказать, ты пример с него брать не будешь, ты ведь в таком согласии живешь с самим собой», — так начал врач свой рассказ. В последний день Габор сказал ему: «Знаете, доктор, это не самоубийство, это — казнь. Я сам приговорил себя к смерти». «А ведь вполне обошелся бы десятью-двенадцатью годами», — добавил в заключение врач. Время показало: даже не десятью-две-надцатью, а всего четырьмя-пятью. С тех пор и я стараюсь удержать в себе, проглотить тот, иной раз рвущийся из груди, в тишине одиночной камеры, страшный крик, который возвещает, что человек больше не хочет цепляться за жизнь.
16
Моя ежедневная прогулка по глинисто-травянистому склону холма, меж покосившимися туда-сюда надгробиями, приводит меня к каменному карьеру, который в 1949–1954 годах был окружен оградой и сторожевыми вышками. Вышки на бетонных опорах, стоящие по углам овечьего пастбища, не поддаются времени. Глаза экскурсантов, наткнувшись на них, спешат скользнуть дальше, к корчме на опушке леса: двадцать лет тому назад там жило лагерное начальство. Навязчивое освещение тускнеющих картин истории. Я выпускаю из-под земли безумное семейство своих призраков и долго смотрю, как они, спотыкаясь, бредут вереницей, прижимая камни к высохшим животам. Под дулами автоматов, нацеленных в спину, таскают камень с одной площадки на другую, потом обратно. Тот, кто подгоняет не только себя, но и других, на обед получит добавку. Бригадир — тоже зэк, только не такой изможденный; на снисходительного погоняльщика всегда найдется стукач, который мечтает занять его место. Выдаст — не выдаст: вот что здесь сплачивает людей, а не партийная принадлежность; коммунист, секретарь горкома, курит здесь одну сигарету с иезуитом, генералом провинции. Но в основном зэки тут были из окрестностей. Множились запретительные законы, а значит, множились и нарушители. Один без разрешения заколол свинью; другой срубил дерево у себя в саду, заменить подгнившее стропило; третий припрятал немного пшеницы, чтобы весной было что сеять; четвертый вез кукурузу на телеге, а один мешок был дырявый, и кукуруза сыпалась в пыль; в один прекрасный день все они оказались здесь. Иногда через ограду перекидывали ножницы для резки колючей проволоки. Бывало, кто-то совершал побег — только ради того, чтобы провести ночь с женой. Беглец, живущий дальше, стучался в какой-нибудь дом и просил одежду, вместо зэковской, с красным треугольником. Еще до рассвета вохровцы стучали в окно сбежавшего зэка; переодевшегося же чужака находили на лесных тропинках овчарки: его выдавал запах лагеря и запах страха. Люди в деревне слышали выстрелы; утром люди отправлялись искать лежащего ничком мертвеца, на теле которого уже успел высохнуть пот предсмертного ужаса. Набат в деревне гудел часто. Поначалу похоронное шествие с горестными причитаниями двигалось по главной улице, впереди — старухи, позади — детишки в белых рубахах; но потом власти запретили отпевать убитых в церкви, и деревенские только на кладбище вытирали потихоньку глаза. На ежедневной своей прогулке я сажусь отдохнуть возле могил безвременно усопших; у иных даже имя не обозначено; я приношу воды и поливаю розы на могильных холмиках.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу