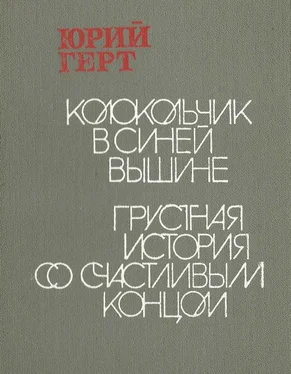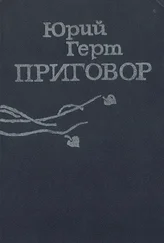Он царит во всей вселе-е-енной!—
надсаживался Мишка, храбро пуская «петуха» за «петухом».
Тот кумир — телец златой!..—
вторил ему я столь же отчаянно и бесстрашно.
Впрочем, кто слышал нас посреди пустынных огородов? Разве что два-три таких же полуночных поливальщика?.. Упоение и восторг охватывали нас чем дальше, тем больше.
Сатана там пра-а-вит бал! —
завывал Мишка, и я видел, как он, вынырнув из-за стеблей кукурузы, размахивает над головой лопатой и движется ко мне, вероятно, воображая себя в этот момент истинным Мефистофелем.
Правит бал там, пра-а-авит бал!..—
подтверждал я с таким же ликующим неистовством. Мы скакали с бровки на бровку, вдоль наполненных водой ящиков, пока не сходились лицом к лицу — грязные, мокрые и отчего-то безмерно счастливые. Мы корчили «сатанинские» рожи, отплясывали какой-то дикарский танец потрясали мотыгой и лопатой, ревели, рычали, закатывавались «адским хохотом»...
Но ария Мефистофеля бывала лишь началом. За нею следовали «Я вас люблю, люблю безмерно» в довольно ироническом мишкином исполнении, «Три карты», которые, не в силах уступить друг другу, мы пели дуэтом, затем — несравненный, повергающий нас в состояние экстаза «Торреадор»... При этом лишенная надзора вода прорывалась на соседние участки или, перехваченная кем-то, вообще иссякала в канавке. Мы забывали о поливе, о комарах, о времени, пока глотки наши не сдавали, а на плечи вдруг не наваливалась необоримая усталость и веки не начинали тяжелеть и слипаться, как будто их щедро смазали мучным клейстером.
Тем не менее по дороге домой — луна к тому времени пропадала за горизонтом, небо на востоке уже светлело, и из степи бодро веяло полынной свежестью — нам на память приходило что-нибудь нечаянно забытое, что требовалось тут же исполнить. Чаще всего это бывала ария Маркиза из «Корневильских колоколов». «Бродил три раза кругом света, я научился храбрым быть...» И дальше — про то, как «венки, испанки и парижанки, и итальянки — словом, весь мир, любовь дарили...» Мы с Мишкой не бродили кругом света», не видывали ни парижанок, ни итальянок, а хоть бы и видывали? Кому мы были нужны?... Но не потому ли нам и вспоминалась эта ария, ее мелодия, такая прозрачная, полная беспечной радости и кружащих голову обещаний? Вот мы напоследок и распевали ее нашими вконец охрипшими голосами.
Впрочем, не то чтобы мы забывали о ней, скорее оттягивали, чтобы исполнить под занавес... И когда я отправлялся на ночной полив один, то приберегал ее тоже под самый, конец.
Потому что дело тут заключалось вовсе не в Маркизе... То есть и в нем, разумеется, поскольку все это было — «Корневильские колокола», с их искрящейся, ликующей музыкой, в которой как бы сливались воедино птичий щебет, рокотание горных потоков, пастуший рожок на зеленых альпийских лугах... Но главное — здесь я увидел из своего галерочного поднебесья Жермен, услышал ее голос.
На ней была широкая, колокольчиком, крестьянская юбка и расшитый блестками, стянутый в тонкой талии лиф. На плечи падали, рассыпались волной солнечные полосы. Она порхала по сцене, легкая, невесомая, словно плывущая в воздухе паутинка. А пела —как дышала, так же свободно, без всякого усилия заполняя пространство между партером и потолком звонким и чистым, жемчужной окраски голосом.
Зал аплодировал ей, многократно вызывая на бис. Она в ответ раскланивалась, приседала и делала шажок назад, придерживая юбку двумя розовыми пальчиками. Хлопали и мы с Мишкой, до ломоты в ладонях, но мне казалось, что для нее этого мало, что хлопают как-то не так... И что лишь я один по-настоящему ее вижу, слышу и понимаю.
Впрочем, это чувство у меня возникло не сразу, но укреплялось от спектакля к спектаклю. В те дни я просыпался по утрам с ощущением какого-то праздника. Так я просыпался в давние времена, до войны, в день своего рождения, зная заранее, что приготовленные матерью и отцом подарки ждут меня, стоит мне протянуть руку...
Тесная комнатка, где жили мы с бабушкой, и теперь выглядела вроде бы так же, как раньше. За окном — глухая стена, темные разводы на серой, местами до кирпича облупившейся штукатурке. В углу — плита с горкой истончавших от огня и скоблежки кастрюль. Посредине — обеденный стол под стертой клеенкой. Этажерка с книгами, карта Европы над сундуком, на котором я сплю... Все, все было как прежде, и вместе с тем... Что-то, чудилось мне, здесь переменилось. И плита, голубоватая от частых бабушкиных побелок, и низкий потолок, и тусклое наше оконце — все сделалось как-то светлее, выше, просторней, даже воздух был наполнен мягким, ласкающим глаз мерцанием.
Читать дальше