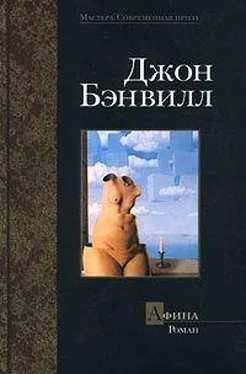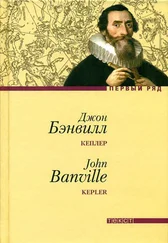Зачем я так извожу себя? Я ужасно, бесконечно устал.
По Хоуп-эллей шёл человек в плаще и вязаном шерстяном колпаке с помпоном, шёл и громко плакал, утирая ладонью слёзы с больных покрасневших глаз.
Идя по продутым ветрами улицам, я опять испытал это гадкое ощущение, что за мной следят, почувствовал щекотную мишень между лопатками. Я задерживался перед витринами, притворялся, что завязываю шнурок, а сам скрытно шарил взглядом справа и слева. Поразительно, какими странными кажутся люди, когда высматриваешь в их толпе определённое лицо. Они превращаются в ходячие восковые фигуры, до мелочи правдоподобные, но совсем не убедительные копии самих себя, с размытыми, безличными чертами, со скованными, забавно нескоординированными движениями. Тем не менее, когда из толпы выделилась ухмыляющаяся круглая голова и кубистское лицо Хэккета, я его не узнал, пока он не заговорил. Я-то ожидал увидеть Лупоглазого или Папаню, а то и ещё кого-нибудь похуже. Он стоял под аркой на Фоун-стрит, держа руки в карманах застёгнутого на все пуговицы и перепоясанного макинтоша, ещё больше прежнего похожий на увеличенного деревянного солдатика, липкого от лишних слоёв лака. Мы обменялись рукопожатием — необычная обязательная внушительная формальность. «Как делишки?» — спросил он, воспользовавшись двусмысленным выражением, к которому, как и Папаня, питал пристрастие.
Мы прошли под аркой и свернули на набережную. Ветер свистел в брызгах над самой водой, волны громоздились и рушились, точно груды больших картонных коробок. «Зима на носу», — сказал Хэккет, глубже запихивая руки в карманы крысино-серого макинтоша и зябко прижимая локти к бокам.
— Я так понимаю, чтобы стать экспертом, надо много потрудиться? — раздумчиво проговорил он. — Столько книг прочитать, и вообще. — Он искоса взглянул на меня с шутливой улыбкой. — Ну, да у вас для этого времени было вдоволь, а?
Мы остановились. Он облокотился о парапет и некоторое время молча смотрел, как вскидываются кверху волны. Колючие капли холодного дождя падали сверху под острым углом. Я рассказал ему о том, как Папаня пришёл в гости в шубе и бархатном платье. Он посмеялся.
— Да, это на него похоже. Совсем сбрендил. Он мне письма пишет, представляете? На всякие темы: о том, как вылечить рак, и что папа Римский — еврей, в таком духе. Полный псих. Он знает, что я знаю, что картины у него. Вопрос в том, где они?
Теперь мне кажется, что самые значительные события в моей жизни всегда совершались под знаком страдания, страха и оторопи, когда, глядя уже со стороны и с трудом веря собственным глазам, я постепенно, с ужасом осознавал, что я наделал. Над моей головой проступает твоё лицо, точно вырезанная из тыквы маска в День Всех Святых, губы плотно сомкнуты, на меня направлен предостерегающий взгляд.
— Они у Мордена, — так тихо, что самому не слышно, произнёс я и в отчаянии чуть не расплакался. — У него в доме есть одна комната… — Ты отворачиваешься от меня, я помню, как ты повела рукой и сказала: «Совершенно свободна».
Хэккет, наморщив лоб, смотрел на воду, словно что-то лениво подсчитывал в уме.
— Вот оно что, — отозвался он наконец вполне миролюбиво. — И как на ваш взгляд, они настоящие?
— Да, — кивнул я. — Подлинники.
На мгновение водянистый отсвет солнечного луча упал на замшелую стену парапета, зелень заблестела. Хэккет дохнул себе на ладони и крепко потёр их.
— Значит, теперь вопрос в том, как он будет вывозить их за границу.
Мы двинулись дальше. Неожиданно нас нагнал автобус и, шурша высокими шинами, проехал мимо, за ним, клубясь и завихряясь, тянулся хвост дождя и бензинного перегара. Я думал: что я сделал, что натворил? Но я знал. Знал, что я сделал.
— Между прочим, — сказал Хэккет, — я ведь говорил вам, помните? Что он ещё что-нибудь такое сделает. — Я не понял, и он шутливо ткнул меня локтем в бок. Тот тип с ножом, пояснил он. — Это уже третий раз. — Он поёжился, сдавив локтями бока. — И по моим понятиям, на этом не остановится.
В доме, когда я вернулся, стояла тишина. Дверь в ванную была открыта. Из неё на площадку жёлтым экспрессионистским клином падал жидкий свет голой лампочки и переламывался на перилах. То, что я по первому взгляду принял за ворох тряпья на полу, при ближайшем рассмотрении оказалось тётей Корки. Она лежала, упираясь затылком в составленную гладильную доску и подогнув под себя одну ногу и одну руку. Совсем как выпавший из гнезда птенец: горстка хрупких косточек, тощая шейка свёрнута, тельце закоченело. Было ясно, что она мертва. Я был на удивление спокоен. Я чувствовал, главным образом, огромную досаду: это уж слишком, знаете ли, право же, слишком. Стоя над нею, руки в боки, я ворчал себе под нос что-то в этом духе, сам не знаю точно, что. И тут она вдруг застонала. Я вздрогнул. Мне стало ещё досаднее — представьте себе носильщика перед багажом, за который неизвестно как ухватиться. Мне бы, конечно, не следовало её трогать, я пересмотрел достаточно фильмов, чтобы это понимать («Не прикасайтесь к ней, сэр, лучше подождём врача!»). Однако, как всегда не подумав, я опустился на корточки, ухватил её за локоть и за колено и взвалил себе на плечи — по-моему, этим приёмом пользуются пожарные. Она оказалась такой лёгкой, я даже подумал на минуту, что рука и нога у неё оторвались, а тело осталось лежать на полу. Шёлк платья под пальцами был как гладкая, прохладная кожа. Она обделалась, но совсем чуть-чуть: отходы старческой жизнедеятельности невелики; как ни странно, даже запах не вызвал у меня отвращения. Я двинулся вверх по лестнице, как будто нёс отвязанную палатку вместе с колышками. Или вроде Барбароссы с его драгоценными трубками. Слышно было, как птичье сердечко тёти Корки колотится о клетку рёбер. «Ох, Господи, сынок», — произнесла она, да так отчётливо и над самым моим ухом, я чуть не уронил её от неожиданности. По крайней мере эти слова мне послышались, а может быть, она сказала что-то совсем другое.
Читать дальше