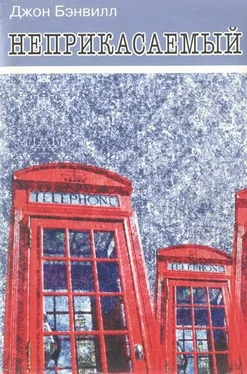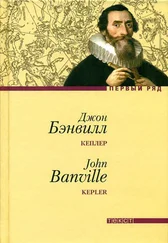Джон Бэнвилл
Неприкасаемый
Первый день новой жизни. Весьма странное ощущение. Весь день рисуюсь, чуть ли не кокетничаю. Устаю до изнеможения, но в то же время страшно возбужден, как ребенок после шумной игры. Да, как ребенок: словно претерпел какое-то гротесковое перерождение. В то же время сегодня утром впервые понял, что уже старик. Переходил Гауэр-стрит, в прошлом излюбленное место прогулок. Сошел с тротуара, и что-то помешало идти дальше. Странное ощущение, будто из ног выпустили воздух и они — как бы лучше сказать: обмякли? — не слушались меня и я оступился. Мимо прогромыхал автобус с ухмыляющимся во весь рот негром за рулем. Что он увидел? Сандалии, плащ, видавшую виды авоську, полные ужаса слезящиеся старческие глаза. Если бы я попал под автобус, ко всеобщему облегчению сказали бы, что это самоубийство. Но я не доставлю им такого удовольствия. В этом году мне стукнет семьдесят два. Невозможно поверить. В душе-то вечные двадцать два. Думаю, так чувствует себя всякий вступивший в преклонный возраст. Брр.
Никогда раньше не вел дневник. Из-за опасения быть изобличенным. Не оставляй ничего на бумаге, вечно повторял Бой. Зачем же начал теперь? Сел и стал писать, словно нет ничего проще, что, конечно, не так. Мое последнее слово. Смеркается, тихо и мучительно грустно. С деревьев на площади падают капли. Еле слышно щебечет птица. Апрель. Я не люблю весну, ее причуды и волнения; боюсь мучительного душевного беспокойства, боюсь того, на что оно может меня толкнуть. На что, возможно, уже толкнуло: в мои годы надо точнее обозначать глагольное время. Скучаю по детям. Господи, откуда это? Вряд ли их можно назвать детьми. Джулиану, должно быть… да, в этом году исполнится сорок, а значит, Бланш будет тридцать восемь, верно? Если они — дети, тогда и я чуть ли не подросток. Оден где-то писал, что ему не важно, в какой компании находиться, он всегда ощущает себя самым молодым; я тоже. Все равно, могли бы заехать или позвонить. «С сожалением узнали о твоем предательстве, папочка». Правда, я не совсем уверен, что мне охота слушать, как шмыгает носом Бланш, или смотреть, как дуется Джулиан. Мамочкин сынок. Наверное, все отцы так говорят.
Хватит о пустяках.
Странная вещь публичное бесчестье. Нервная дрожь в груди и ощущение, что тебя подхватило каким-то вихрем, а кровь словно ртуть тяжело перекатывается под кожей. Возбуждение, смешанное со страхом, — крепкое зелье. Сначала не мог понять, что мне напоминает такое состояние, потом осенило: первые ночи в поисках партнеров, после того как я окончательно признал, что хочу сношений с подобными мне. Та же лихорадочная дрожь, смешанное со страхом нетерпеливое ожидание, та же еле сдерживаемая противная ухмылка. Желание оказаться в чужих руках. Неукротимое желание, чтобы тобой грубо овладели. Ладно, все это в прошлом. Вообще-то все в прошлом. В «Et in Arcadia Ego» [1] «И я Аркадии».
есть особенный кусочек голубого неба, где облака образуют силуэт стремительно летящей птицы, который представляется мне подлинным скрытым центром, кульминацией картины. Когда я размышляю о смерти, а в последние дни я размышляю о ней как о чем-то все более вероятном, то вижу себя спеленутым в белые погребальные одежды, скорее персонажем Эль Греко, нежели Пуссена, в экстатической агонии возносящимся под погребальное пение и лицемерные стенания, сквозь вихрь золотистых, как чай, облаков к такому вот клочку прозрачно-голубых небес.
Надо включить лампу. Мой надежный огонек. Как четко он очерчивает крохотный пятачок узкую полоску стола и лист бумаги, всегда приносившие мне огромную радость, этот светлый уголок, в котором я счастливо прятался от внешнего мира… Потому что даже картины скорее пища для ума, нежели для глаза. Здесь же у меня все, что…
Позвонил Куэрелл. Что ж, самообладания ему не занимать. От телефонных звонков я давно не жду ничего хорошего. Я так и не привык, как не привыкаешь к коварным пакостям несносного младенца, который таким образом требует к себе внимания, когда ты меньше всего этого ожидаешь. Мое бедное сердце до сих пор тревожно колотится. Хотя кто еще, кроме него, мог позвонить? Звонил с Антиба. Мне казалось, что я слышу отдаленный шум моря, я завидовал и злился, но вполне возможно, это был шум уличного движения у него за окном — на Корниш, да? или где-то еще? Говорит, услышал новость по всемирной службе Би-Би-Си. «Ужасно, старина, ужасно; что еще скажешь?» В голосе еле сдерживаемое нетерпение. Хотел узнать все грязные подробности. «Что, на сексе попался?» Какое лицемерие… и все же как мало в конечном счете он знает. Надо ли было его осадить, сказать, что знаю о его предательстве? Что толку? Скрайн увлечен его книгами. «Знаете, этот Куэрелл, — говорил он с характерным присвистом из-за зубных протезов, — раскусил, чего все мы стоим». Меня не раскусил, приятель; только не меня. Я по крайней мере надеюсь.
Читать дальше